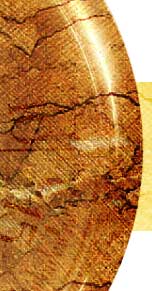У Марины болела голова - было бы странно, если бы в такую погоду голова не болела. В этой полной женщине с умащенной зрелой кожей можно было узнать прежнюю офисную мадонну - линия носа и разрез глаз не сильно изменились. Большая шикарная дама в шубе дикого цвета (скорее красного). Глядя на неё трудно было представить, что её что-то может беспокоить. Но она очень долго к этому шла – чтобы сияющее лицо и всё хорошо вокруг, чтобы хотя бы думали так. Но ведь для неё думали – значит и есть на самом деле. Говорят – значит, так и есть. Хотя такая наивность не исключала чисто женской, воспетой веками, ловкости и догадливости - даже материнской печали. Когда-то она отвечала Толику на его пьяный вопрос: "Рядом с тобой я чувствую себя королевой". Она бы ответила так и сейчас, но это выглядело бы уж слишком ненатурально, а она считала, что никогда не лжёт. Не лжёт, а работает над собою, и совершенно искренне верила, что так и есть. Марина сидела за столом, слушала треск сообщения в смартфоне, а поза у неё была почти та же, в которой застал её когда-то Толик, и влюбился в неё. Пальцы у виска, нос - скобкой - вниз, нижняя губа слегка округлилась.
Дома было всё сложно. Сыну Мите пришлось снять однокомнатную квартиру, и её оплачивать. Митя Толика не переносил, и они уже несколько раз подрались, Марины не стесняясь, но ведь мужчины всегда найдут общий язык. Потом Митя настоял, чтобы мать сняла для него однушку в центральном районе. Заработная плата Марины была приличной для её круга, но съём однушки – это почти подвиг. Однако согласилась. Марина любила свою работу, и от неё очень много зависело на этой работе. Сын тоже от неё зависел, но ничего с ним поделать не смогла - неуправляемый. Хотя и сейчас Марина ни в деньгах, ни в общении сыну не отказывала. Дочь похоронила лет пять назад. Это была конечно трагедия, Маринины глаза стали пустыми, как и дом. Наденька была существом – ангелом, феей – которое сообщало смысл Марининой жизни, да и Митиной тоже, как Марина счиатала. Именно тогда и начались конфликты с Митей, на самом-то деле подточившие Маринино офисное сердце. Именно тогда поняла, что спать с Толиком можно, а жить - нет. Но спать продолжает и сейчас, потому что - королева. Иногда они подолгу бывают вместе, очень по-семейному, нежно и тупиково. Но стареющему Толику только того и надо, а она ещё очень даже ничего, и не развратная. Хотя (про Толика) как сказать. Главное - она смогла справиться с собой, она собой довольна и теперь можно излучать свет и любовь на других. А сегодня – навестить сына.
- Ало, вот, перезваниваю.
- Ну как ты там? - спросил Толик в трубке.
- Привет. Заканчиваю в семь, а потом к Мите хочу.
- Встретимся сегодня?
- Можно. Что ты предлагаешь?
Предлагает всегда Марина. Вот уже много лет эта фраза доводила Толика, и всегда точно, безошибочно, до черты ярости, за которой звучит только одно: пошла ты куда подальше.
- Ну, как тебе сказать. Я очень хочу тебя видеть.
Неправда, конечно – но надо же думать, что он влюблён, что с ним – самая красивая женщина его жизни, и в этом он не врёт, и ничего плохого в пафосе нет.
- Тогда там же.
И началась милая трескотня о том, что она сегодня делала утром дома, что ела, что сказала подруга, что на работе, как позвонила Мите и что сказал Митя. Мите было уже за двадцать, смотрел мужиком, вполне красивым, и Толик иногда сильно задумывался над тем, как у него с девчонками. Толик циником не был. Он сострадал и Марине, и Мите. В последние лет пять чувство его к Марине было именно состраданием. Приобрели значение, большее, чем раньше, смены её настроения, перепады самочувствия. Вот и теперь, его даже растрогал рассказ о том, как у неё болит голова.
Это кафе оставалось их кафе они там встречались уже несколько лет, потому что находилось оно рядом с Марининой работой, и места менять не хотели. Традиционно Толик заказывал ужин, на одну персону, а себе – только кофе (хотя бывало, что водку и закуску, не так редко, как ему самому казалось). За ужин иногда платили пополам, а часто – только Марина. Дни, когда платил Толик, были исключением, но именно они для него были главными и он был горд собой в эти дни.
Против ожидания, у Мити бардака не было, а было чисто. Гудела стиральная машинка, а сам что-то мыл на кухне, закатав рукава подаренной матерью толстовки с «Игрой Престолов». Сын не вышел в прихожую, когда вошла мать, не помог снять дурацкую красную шубу. Но ей и не нужно было. Шубу сняла сама, по-королевски, уверенно вошла в комнату, не очень большую, но чистую и с хорошей мебелью, села на диван, показав, ногу на ногу, колени в тонких чулках, купленных в подарок Толей. Чулки, конечно, Толик выбирал вместе с Аськой, но Марина об этом не знала, да это ей и не нужно. Затем достала конверт из большой забавной сумки, которая так не вязалась с её косой шеей и выгнутой спиной, положила конверт на журнальный столик и стала ждать, поигрывая длинными кистями в браслетах и кольцах.
Долго ждать не пришлось. Митя вошёл, рукава всё так же закатаны, в сгибах рук Марина увидела красные точки.
- Ты был у врача? Что с тобой?
- Общее утомление. Я же теперь работаю. Прописали глюкозу, - ответил Митя. Увидел конверт, поднял его и бросил матери на колени, - Возьми. Теперь я могу оплачивать сам.
Она изумилась, встала, чтобы посмотреть сыну в лицо. Ей всё казалось, что они одного роста, а оказалось – Митя очень высокий, как его отец, и смотрит холодно и страшно. Рот у Марины скривился, угля поползли вниз, а глаза стали – как дождливое окно.
- Да, и если можешь – уходи сейчас.
Она даже и не поняла толком, что сын ей сказал. Он много что ужасного говорил: и до смерти сестрёнки, и после. Но тут что-то случилось с ней самой. Встала, будто решила, что и впрямь пора бы уйти, засиделась. Прошла в прихожую, даже шея немного распрямилась, надела шубу, бросила шарф, который конечно лёг нелепым хомутом.
- Я хотел бы плюнуть тебе в лицо или побить. Но мне мерзко. Я желаю тебе только того, чтобы на свете был ещё человек, который так же как я – очень сильно хотел бы того же самого, что и я.
Марина не нашлась что ответить. Она делала какие-то не вполне понятные ей самой движения ртом, лицо совсем перекосилось, но ужас – Толик бы оценил – в это самое время в нём было бабье выражение тихого изумления и горя. Сыночек, что же ты! Но вдруг:
- Я выпишу тебя, я пойду в прокуратуру, я в суд подам…
Словно кто-то другой, а не она выкрикнул эти слова. С тем же бабьим выражением лица. Митя нисколько не удивился, а сказал только, смотря прямо и почти спокойно:
- Ну да, ты можешь. Ты же гармонически развитая творческая личность.
В авто остервенело набрала Толиков номер, и тот сразу отозвался. А её мучил, и уже давно, сильный цистит. Авто, цистит - писать, писать, писать.
- Я писать хочу, - так и сказала в трубку.
…Нет, так не может быть, не может. Она же – барон Мюнхгаузен, она может вытянуть себя за волосы из этого болота, уже восемнадцать лет как может… Но как же так, Митя, Митенька - сволочь ты моя родная. И Толик-то, Толик… Что же ты, как же ты - надо подключаться, надо работать над собою, Толик… Что же так…
Сказала, после ласкового Толикова: что ты делаешь?
- Ты помоги мне тёткину квартиру разобрать. Я сейчас к ней, в Подмосковье – а ты подъезжай часам к восьми туда, на Водный. Квартиру надо разобрать.
Тётка находилась в Доме Инвалидов. Квартира по наследству принадлежала Марине.
- Мите хочу. Или там вместе жить будем, с тобою.
- Вот ещё не хватало, - подумал Толик. У него жизнь закончилась, он теперь аккуратный старый холостяк, а тут – жить. Не хочет он жить. Но прикасаться к этому словно выпачканному ушной серой телу (а ему нравилось, что жёлтое и блестит), но изгиб носа. И вспомнил, как однажды сказал Аське в одной из ссор:
- Откуда ты знаешь, может ваш бог Марине её тупость за её красоту простит, и нас всех помилует ради неё, потому что она в его глазах прекрасна.
Толик не помнил, что ему ответила Аська, а помнил только, что спросил он: а откуда ты-то знаешь? Бог на лицо не смотрит, а Марина – вся лицо, одно сплошное лицо.
А у неё нещадно ныл висок, и хотелось в туалет, одновременно. Однако слёз не было. Слёзы - это для Толиковых прошлых. Теперь с ним и с ней всё по-другому, восемнадцать лет как по-другому. Она выше, она сможет преодолеть стресс, она знает себе цену. И не было рядом никого, кто обнял бы в этот момент и сказал бы, не по телефону: родная, всё чушь, я с тобой. Но это была та часть комнаты мыслей, в которую Марина не заходила принципиально. А вы хотели бы думать только о том, что вы ничтожество, неудачник, подлец и хам? Ах, как это красиво; и это не нарочно, а я так устроен, что думаю только о том, что я неудачник, подлец и хам. А у Марины сын-красавец и любовник с ней уже почти двадцать лет. И она для него самая желанная женщина на свете.
Толик не мог дозвониться до Аськи. Мало ли что. На плохое самочувствие она стала жаловаться чаще, но Толик имел в виду, что может, она и потарчивает. А тут - он особенно суеверным не был - в макдональдсе на Новослободской увидел двух разодетых как хиппи стариков примерно его возраста. Как он не любил эти счастливые опивки первой системы, как не любил! Хотя если вдуматься - за что их не любить? За то, что давно и вдруг захотели быть не такими как все, и ничего из этого не вышло? Эти двое были очень колоритной парой. Он - в радужной тибетской куртке, невысокий, сухой, со следом ожога на правой щеке, полуседой, с надменным взглядом. Она - в лосинах под пёстрой богатой юбкой, в светлой дубленке, белая, крашенная, с резким каким-то картонным лицом и алым цветочком на левой щеке. Наверно, татуировка. Однако эта заносчивость показалась Толику более человечной (слово-то нашел!), чем открытые пьяные лица Феи и Моргана, сидевших теплое время года на чужой даче, а зимой уходивших в творчески-алкогольный запой. Более скверных характеров, чем в системе, Толик не знал, но это его стороннее наблюдение. Они же наверняка всех любят. И всех учат жить. Внезапно в кафе вошел Азазелло, совершенно не изменившийся за двадцать (а то и тридцать) лет, подошёл к парочке, что-то сказал мужичку. Оба, она и он, встали и пошли за Азазелло. Вот ведь. И так прозрачно, за чем пошли и что будут делать. Что, может быть, не один Толик понимает, куда и зачем идут эти артистичные люди.
Предчувствие было верным. Почти возле метро, при входе на Селезневку, Толик увидел Митю, сына Марины, с чехлом бас-гитары "эштон". Рядом с ним шла Аська. Толику почудилось, что она почувствовала его взгляд. Повернула голову и, кажется, посмотрела на него. Или не посмотрела? Митя и Аська. Вот те раз. Однако Марине говорить не нужно. И квартиру ее он разбирать не станет. Через час может и позвонит. Договорились же в кафе в восемь встретиться.
Митю подламывало, но несильно. Присутствие Аськи неприятные ощущения почти снимало. Прикольная тётка. Нежная, заботливая. Если не она, Митя бы точно подсел и связался бы не с рефлексирующими тонкими психами, а с конкретными братками, и было бы ему плохо. Он уже понимал, что однажды чудом остался жив. Не Аська тому причиной, но она как-то уместно и вовремя возникла рядом. С ней есть о чём поговорить, даже о своей девчонке. Девчонка у Мити заводная, а кроме того петь умеет и на таких понтах, что хоть сейчас на Евровидение. Кошачья порода. Катей зовут. Кошка и есть. Именно в студию, на репетицию с Катей, Митя и шёл, и нёс свой любимый огромный «эштон».
Но всё это была приятная, ночная сторона жизни Мити, а о дневной не знала даже Кэт, а вот Аська знала. Именно она и свела его со стариком Майклом, а Майкл, кому-то позвонив, определил Митю в дорогущий закрытый клуб – лабать. Это была дневная сторона, рациональная и довольно любопытная. Так как надо было считать деньги, не только зарплату, весьма приличную, но и чаевые. Надо было нравиться начальству, потому что при клубе был великолепный спортзал, а Мите нравились тренажёры. И потом, аппаратура, о которой молодой музыкант мог только мечтать. А на аппаратуре новые модные проги, и вот он бесплатно ими овладевает. Про Майкла Митя забыл тут же, но вот Аська как-то прижилась. Иногда ночевала у него, даже когда Кэт приезжала: на кухне ведь удобный диванчик.
Митя не мог сказать, что Аська нравится ему как женщина, хотя с ней было приятно, скажем, пойти в кафе. Худая такая, стильная, на каблуках и бёдрами виляет. А все думают: мол, каков. Он интересен опытной тётке. В этом было утончённое наслаждение. Но та же Аська как-то (конечно в кафе) сказала ему:
- Митя, не спи с женщинами старше тридцати лет. У них уже не очень приятное тело и претензии на то, что им двадцать. Кроме того, они глупо ревнивы, ты это ещё узнаешь. И про то, что не очень приятное тело – тоже узнаешь. Женщины после тридцати – только для стариков, за полтинник. Это их надо ревновать, это за ними надо ухаживать. Они требуют постоянного ухода.
Митя про тридцать лет и женщин запомнил. Решил проверить: как-то обнял Аську и стал целовать. Она не отказалась, ей нравилось. Но про тело он понял. Она всё же очень умная, эта тётка. Больше они не целовались. А Кэт любила ходить с Аськой по магазинам. Однако была в Аське какая-то не очень понятная Мите мягкость, будто она чувствовала себя виноватой и хотела тут же раствориться в пространстве. Это был признак слабости, с точки зрения Мити, но он Аську слабой не считал. Именно эта мягкость и влекла его, и он мог сказать, что играет на своём «эштоне» не Кэт, а именно этот мягкий виноватый взгляд, возникавший вдруг, ненадолго и совершенно неожиданно. Аське было пятьдесят.
Она чем-то напоминала ему мать. При воспоминании о матери во всём Митином существе вздыбливалась как земля на кладбище фраза: у меня было самое счастливое в мире детство. Если бы Митя не считал себя немного носфератум, он не вынес бы этой мысли. У него было всё, даже заботливый папа в виде Толика, не пренебрегавший наказанием. А теперь они вообще говорили как мужчина с мужчиной, и Мите это льстило. Толик относился к категории мужчин-котов, как бывают женщины-кошки. Митя считал, что у таких людей самая близкая ему энергетика. Но мать оставалась незаживающей, а всё более тяжёлой раной, хотя Митя несомненно её любил и хотел любить счастливо, вот как Аську. Но мать была во всём непозволительно права, слишком хороша для своих лет, слишком любила показать, что у неё получается всё, за что ни возьмётся. И самое неприятное – это когда Митя видел их с Толиком. Не в постели; это кстати был не шок; Митя к тому времени уже много знал про девушек. А когда они на кухне, особенно когда Толик достаёт из супердуховки тонкий диетический куриный пирог и перед тем, как поставить его на стол, целует Марину в губы, обязательно при этом сказав:
- Горячо!
Всё это происходило едва не с первого класса. И каждый раз лицо у Толика было такое, что ему засунули в рот одновременно луковицу и лимон. Пару недель назад Митя так и спросил:
- Тебе не надоело над пирогом кривляться?
Толик, ещё слова не отзвучали, хлопнул Митю по уху.
- Ты не понимаешь пока. А вот будет тебе как мне – под шестьдесят… И потом – что ты думаешь? Я только за её деньги с ней сплю? Я ведь и свои трачу, все, на неё…
Митя мгновенно представил себя шестидесятилетним. Таким как Толик. И свою мать. И заорал, именно заорал, совсем себя не помня, из живота:
- Да я видел, как ты её целуешь. Ты её терпеть не можешь, она тебе отвратительна, только ты себе в этом не признаёшься. Ты презираешь её, ты её презираешь.
- Сам-то, - как-то подавленно ответил Толик и пошёл доставать пирог с курицей.
Митя переждал роковой момент поцелуя в гостиной, а потом вошёл в кухню: пирог Толик готовил вкусный, мать на пирог тени не бросала.
Марина, в чём-то нежном домашнем, чрезвычайно женственном и скромном, сидела у стола и вытирала с губ (чрезвычайно нежных, по словам Толика, не оторваться) следы томатного соуса к пирогу. Митя, подавив внезапный смех, сказал:
- Ей трахаться сейчас, а она в томатной пасте извозилась.
Во фразе и в голосе Мити была какая-то последняя тонкая жалость, а вовсе не грубость. Он жалел Марину, то есть – бездельник сын жалел свою прекрасную успешную мать. И всё-таки жалел. Даже не как собаку, уличную собаку, сломавшую лапу. А как странную нищенку возле храма. Он мог бы ей подать милостыню.
Марина побледнела, как-то нелепо дёрнулась, раскрыв рот, глаза потекли на скулы, большие глаза, совсем без выражения, а соус капнул на это самое нежное и дорогое, в чём была. Так и сидела некоторое время - с открытым ртом и большими глазами.
- Дурак, - меланхолично ответил Толик, - да я эту пасту языком слижу у неё с губ, а потом умру за этот вкус.
- Нет, - ответил Митя. Подошёл к столу, взял большой кусок пирога и тарелку. Затем вышел, бросив тихо, так что Толик не слышал, - Да ты Аське «нет» сказать не можешь, какая любовь.
Утром он заявил Толику. Именно ему, а не матери:
- Мне нужно пятьсот долларов. Я снимать квартиру хочу.
В студии Роста были все: Кэт, вытянув узкие золотые каблуки, полоскала горло чем-то тёплым, сам Рост, в тёмных очках, ходил из угла в угол и что-то повелительно басил, барабанщик Паша поигрывал мускулами (он очень любит свои фотографии за установкой), и всё остальное в том же духе.
- Время! Время! – налетел на Митю Рост и постучал по крупному циферблату наручных часов, - Мои деньги!
- Сначала кальян, - почти кокетливо ответил Митя и помог Аське снять пальто.
Кальян был готов; смесь из полузапрещённых – с травкой.
Однако тут возник совсем новый персонаж, показавшийся Мите знакомым. И то, что показался знакомым, и то, что показался - было глупо. Но персонаж возник непонятно как, непонятно откуда, но вот он – стоит перед Митей, почти одного с ним роста, полный, рыжий до кончиков ногтей, с внезапно яркими голубыми глазами из-под бейсболки.
- Ага.
- Зигги! Время, время, - Рост взял было за локоть рыжего, но рыжий и сам вроде как собрался отчалить. В знак встречи-прощания добродушно протянул Мите руку и сказал:
- Макс. Макс Зигфрид.
- Дмитрий Хомутов, - ответил Митя как можно более официально и руку пожал.
Аська правда чувствовала себя неважно, но не в первый раз. Торчать она никогда не торчала, но бывало, что вмазывалась, как и много лет назад – «полечить спину». Сейчас чувствовала нечто вроде жара, потому картинка душноватой студии перед глазами словно плавала. Ей нравилось, как поёт Катя. Можно было уйти в свои и совсем не весёлые мысли.
«Когда я видела эту рулетку? Вот так же. В холоде, в недостатке денег, в ожидании, что будет плохо и потом уже ничего не исправится. Но тогда была зима, обувь была совсем плохая, кажется, чуть только утеплённые старые югославские сапоги. А теперь весна, но тоже снег. Не важно. Рулетка. Да, ходит планка, а лампочки загораются, красный и зелёный. Почему зелёный? Тогда зелёного не было, а только красный. И думала, что умру я. С этим шприцом, найденным в складках одеяла, с тем, что в принципе не могу сделать укол в вену. Я ждала, что умру. А умерла она. То есть, она умерла летом, в августе, но тогда у Толика с Мариной было всё так хорошо, что я себя не помнила и что-то такое делала, как-то жила, без неё. А она. Хотя нет, почему – умерла. Не надо так со мной, Аська, не надо вспоминать, что Алина умерла – она говорила, что у Бога нет мёртвых. И зачем ей этот Бог?
Она думала, что выглядит волевой, упрямой женщиной. А все видели в ней текучее нежное существо, которое не то что постоять за себя не сумеет, а нуждается в постоянной поддержке. И эта её улыбка, которая теперь у меня. Почти виноватая улыбка. И вся она была – о не смотрите на меня, мне стыдно. Она была целомудренной. И очень влюбчивой, вот как сейчас Кэт голосом изобразила. И очень красивой. Когда она материлась или говорила резкие фразы, было неестественно. И когда нарочно улыбалась, было противно. Ей очень шло грустное, лёгкое выражение лица, будто ни о чём не думает. Но оно было очень редко, только иногда, когда уже лежала. А так – только этот сморщенный лоб, поджатые губы, глаза от усталости навыкате. Да нет, она красавицей не была, если судить по тому, как держалась. Всегда ведь выигрывают люди, которые лучше на фото, чем в жизни, а она была лучше в жизни. Когда я приезжала к ней и привозила кофе, у неё изо рта шёл запах очень долго не евшего человека. Я помню это по своей матери. Невыносимый запах. Трупный запах.
Да ладно, что вспоминать. Алина не любит таких панихид. Вот Макс тут, он весёлый и умный. Он всё наладит. А где же Зина?»
Аська даже оглянулась по сторонам несколько раз: где Зина? Но Зины не было, а Митя улыбался ей довольно игривой улыбкой. Митя её любит, она это знает. Сынок.
ИЗ ДНЕВНИКА ЕЛЕНЫ ПЕТРОВОЙ – АЛИНЫ
«Июль 1989. Честеру всегда везло. Он и выглядит моложе своих лет, и хаер у него красивый, без седины, а ему под сорок. И баб вокруг всегда было много, так что пища и вписка - обеспечены. Стоп, а что это я снова о Честере вспомнила? Что под черняшкой на руках от метро до квартиры нёс, а я как русалка из канализации его обнимала? То-то, что русалка из канализации. Была бы не из канализации – Честер не ушёл бы. Ему поди плохо: квартира, место для деятельности и жизни. А меня как-нибудь обработал бы. Мне что, много надо: посмотри ласково, погладь руку, я и не откушу. А вот если бить – откушу.
Что-то сильно не по себе сегодня. И зачем вспоминается Честер, которого сама и выгнала, с визгом и слезами? Зачем теперь всё это гонево, тяга к рукам, к теплу тела, и губы сами дёргаются. Это начало агонии. Тогда будет так же. Надо готовиться, а я на его, Честера, баб дуюсь. Сколько их ещё будет. Сколько было. Или это я на сатану дуюсь? Ох и сравнение: Честер и сатана. Да сатане Честер и не интересен, его покупать не надо. Он сам за сатаной бегает, а тот его, смеясь, отпинывает. Зачем сатане сдался Честер? За его пуделиную гриву и большой член в форме банана? Сатане бабы Честеровы нужны, а он сам так, пусть бегает. А вот из баб можно кровь попить. Бабы готовы душой торговать. Думают – мужику, ан нет, сатане. И сатана прекрасно себе новых невест приобретёт через Честера. Это на тему жизни и смерти. Честер – витальность как она есть, флюид жизни. И это хорошо, а то бы совсем невыносимо было в этом нашем лебедином озере. Хоть бы Макс пришёл, что ли. Он из истории средневековья много знает и очень интересно рассказывает. Надо его мысленно позвать. Позову. Но в дневнике этого писать не надо, глупо.
А я ведь ещё очень в своём уме, даже удивительно. Я сейчас всё что надо пишу, я умная. А когда была живая, не была умная. Но где-то всё это, кажется, было. И скучно. Нет, не скучно. Что-то другое. Это агония начинается. Это Христос обучает тому что будет, чтобы не очень боялась. Когда сводить будет всё тело, и когда уже не добежишь. Когда я выходила из дома в последний раз? Тогда же, когда трахалась с Честером и когда начала дневник. Несколько месяцев назад. Весной. На пасху. Счастливое было время».