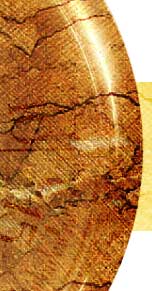ИЗ ДНЕВНИКА ЕЛЕНЫ ПЕТРОВОЙ - АЛИНЫ
"Июль 1989 г. Игорь начал подозревать, что я нарочно не ем. А мне что теперь - рвотное пить? Он тоже очень тонкий, как я. Начал подозревать - стал ныть, что ноги отнимаются, что умрёт скоро. Он это умеет, ему в нытье равных нет. Вот бы его (я злая) на Честера напустить. Вогнал бы в смуток - только так. Честер бы позабыл свою весёлость. Но так думать нехорошо. Что же, и поем этих его шпротов с лимоном вприкуску. А потом выпью всю воду в кране.
Приходил священник, молодой, но очень трогательный. Руки у него музыканта: ровные длинные пальцы с чуть увеличенными суставами и припухшим запястьем. Как подцепит, так и заиграет. Игорь сказал: вы друг друга поймёте, он раньше рокером был. Он вообще похож на принца. Тоже мне - батюшка. Сначала я хотела рассказать всё подробно. Потом как-то сами собой возникли слова, так скажем, из его языка. Их оказалось - много не надо. Я всё что нужно прочитала накануне, красивые песни. Вот бы мне гитару, я бы на этот богородичный канон сама бы музыку написала. Но это почти шутка. Жду, когда будет роковой вопрос. Он и спросил, принц:
- Вы кушали?
- Нет, - говорю. Это-то правда. Но я ж ему не сказала, что нарочно не ем, чтобы умереть. А тут Игорь, чортик такой, возник:
- Да она чудит. Нарочно не ест. Умереть хочет, что ли.
Священник кивнул и попросил встать. Что он там себе подумал, не знаю, но по виду милый очень. А как мне встать? Меня шатает. Вот сейчас, перед жарой, так плохо, что даже лёжа голова кружится. И куда мне падать - им на руки? А всё-таки летом хорошо. Легче живётся, даже если иметь в виду, что легче только одежда.
У священника - жёлтый маленький металлический сосуд.
- Сложите, - говорит, - руки крестом.
Сложила, как он сказал. Просто больница какая-то. Правую на левую, ладонями на плечи. Такое получается объятие.
- Шире рот откройте.
А вот с этим сложно. Он как-то засох, рот. Отдельная у него с некоторых пор жизнь. Но ничего, открыла. Причастил. Потом дал вина глотнуть. Я тут засмеялась и стала засыпать. А Игорь уже чай сделал. Пьём чай с тортиком, беседуем. Принц мой не расспрашивает, только поддакивает. Вы иначе не могли, да не такое бывает. Будто равнодушный. Это заводит, раздражает. Но он всё верно делает. Я щас его сама спрашивать начну. Нет, конечно, спрашивать не стану. А он:
- Вы кашу кушайте, молочную. Вам теперь твёрдое не очень полезно будет. А, знаете, я читал у Петра Дамаскина, такой замечательный древний подвижник, что мясо в слабости скорее вредно, чем полезно, а особенно отвар, который мы так любим за аромат.
Ну я тут и представила себе бульон с яичком, пахнущий лавровым листом и укропом. И посмотрела на Игоря голодными глазами. Как он тут же банку шпрот не открыл, не знаю.
- И преподобный Исаак Сирин тоже подтверждает: мясо больным не полезно. А каша вам сейчас в самый раз будет. И пейте больше, несмотря на жару, больше пейте. Желательно тёплого, а не холодного. Литра три, и не смотрите на меня так. Литра три в день выпивайте.
Вот так рокер. Врач он, а не рокер. Принц этот наверно мысли читает:
- Я в первом меде учился. Можно яйцо всмятку добавить, это очень хорошо. Не любите яиц всмятку?
Всё-таки я самая счастливая женщина на свете. Ну вокруг кого ещё такие красавцы на цыпочках ходят? И мне платить им нечем. Вот и сижу, сияю на них глазами, бесстыдно счастливая и красивая. А он своё, уже ближе к теме:
- Евангелие читайте. Молитвы пока вам освоить трудновато будет, привыкайте сначала к Писанию. А потом уже надо будет сполна утренние и вечерние читать.
Тут я не выдержала:
- И месячные тоже.
Этот, рокер из первого меда, а ныне принц и священник, даже ухом не повёл:
- Да, и месячные тоже. В идеале вам причащаться хорошо бы раз в месяц.
Что ты с ним поделаешь. Но я счастлива".
Двадцать минут первого. Алекс проверил загрузку: вроде пока всё прилично. Но мысль перейти на вражеский интернет не оставляла. В графе «ваш город» указать Сан-Франциско. При воспоминании об этом названии сразу же, отскочив от невидимой клавиши, возникла сценка. Какой-то лохматый 91, Кенигсберг, выпивший Олди в Дарах Моря. И спрашивает: ну как, завтра на басе. И повторяет: на басе… Концерт, понимаешь, у Комитета. И нужен бас. Ну, будет он играть на басе. Договорились. А потом, когда уже вышел из Даров и пошёл через магазин, ему подмигнул мужик лет пятидесяти, нёсший что-то за пазухой. Алекс на этого мужика и внимания бы не обратил, но тот уж как-то особенно подмигнул и сказал, показав большой разноцветный рыбий хвост из-за пазухи:
- Корюшка. Из Сан-Франциско. Город цветов.
Город цветов. А у нас… Что же это – мысли за восемнадцать лет не переменились? И снова вспомнился майор, в новых погонах, с ужасно светлыми глазами. И холод. Собачий холод.
Вдруг – звонок на мобилу. Мобила-то на тихой вибрации, но всё равно: как это, кто? Алёнушка спит. Ей теперь много спать надо, для красоты, а это главное. Это её творчество.
Отец Ефрем.
- Я щас приеду. Спать ложишься?
Все знают, что Алекс пишет до трёх и встаёт в девять. Потому и старый.
- Нет. Приезжай.
Что случилось – потом спросит. Но ясно, что что-то случилось.
- Взять чего?
Не пьёт батюшка, конечно. А вдруг?
- Нет. Аппаратура готова? Я бас везу.
Бас! Да что ты будешь делать: и тут бас. Пятница играть собрался. Пятницкий, потому и Пятница. Один Алекс знает, по какому-то фестивалю, что за басист Пятница. Знает, потому что сам на басе умеет. Только вот что играть будут?
- Давай-давай. Попишем.
Отец Ефрем действительно приехал с басом, старой советской гитарой, в старом же, брезентовом, самосшитом чехле непонятного цвета и узора. Узор был из надписей шариковой ручкой – поклонники автографы оставляли. Ну, инструмент в порядке?
- Я проверял. Он может.
Начали тыкать и подключаться. Гнёзда в старом басу оказались новые. Алекс не сказал, но видно было, что заметил.
- Да я тут его реанимировал.
Настроились, проверились.
- Кофе?
- Кофе.
В комнатке Алекса были и чайник, и маленькая тумбочка с банками и чашками. Это чтобы по кухне не ходить и Алёну не беспокоить.
- Ты что, Пятница, из священников ушёл? Моральный кризис?
Вот они, православные. Он так и знал, что церковь душу не кормит. Хотя как сказать.
- Дурак ты, Алекс. Оттуда не уходят. Да и мне – зачем. Но тут такое… В общем, собак флойдовских щас играть будем. Фендер-то у тебя – как у них.
За фендер Алексу было немного стыдно. Ну очень хорошая гитара. Профи.
Вдруг как в открытую форточку потянуло тем деревенским закатом, и козами, и Савкиным, идущим по небу. Его и сыграем.
- Минусовки делать? Там ведь много всего: колокольчики, клавиши, эффекты.
Отец Ефрем улыбнулся, широко, даже немного рот открыл. Колокольчики!
- Да нет. Давай по серьёзному, вдвоём. Это задача – вдвоём сыграть.
Задача. Вдвоём – и психоделическую композицию на восемнадцать минут. Пятница толк в музыке знает. Проверили каналы записи и воспроизведения. Всё в норме, всё слышно.
Слышно. Алекс любил эти мгновения. Когда записываешь. Тогда слышит весь космос, а не только земля и Сан-Франциско шестьдесят седьмого года. Ну и дался ему этот Сан-Франциско. Тем более что собачки – английские, глухие, как путешествия Гулливера.
Алекс начал, не дожидаясь отца Ефрема. Понемногу, мягкой ночной рукой, чуть плавающей, как первый сон Алёны, не слишком высоко, превратив колокольчики в потрескивающие радиосигналы. И дальше пошёл-пошёл, и не заметил бы, как вступил бас. Бас начал говорком, жалобой старика, так внятной Алексу, каким-то жабьим и совиным призвуком, так что захотелось повращать ручки, чтобы звук почистить. Но Алекс не стал: бас был отличный, а партию отец Ефрем знал прекрасно. Этот бас умудрялся ухать там, где должны быть ударные, а это требовало, чтобы фендер Алекса изображал и клавишные, так что на лбу Алекса выступила уже предутренняя роса.
Вокала не подразумевалось. Но оба чувствовали, где он может быть, и пробовали играть выколотыми звуками – как можно рисовать выколотыми точками. Они играли пустоту вокала, а не замещали вокал звуками гитар. Как это получилось, они не смогли бы объяснить, но это происходило. Вряд ли кто-то из них смог бы повторить потом такую игру.
Композиция сложена из нескольких частей. Напоминала маршрут поезда, который удачно летит под откос в конце. Самое сложное - сыграть перед поворотом, сам поворот и финишную прямую, на которой второй вагон наезжает на первый, а вторая линия вокала выходит в первую. Алекс не очень любил флойдовских собак, но этот ход в конце уважал. И побаивался его.
«Вместо нас? Кто вместо нас? Нет, это мы вместо – кого? Живые и мёртвые, мёртвые и живые… Но ведь мёртвых нет? Или есть, потому что я не вижу их как живых?»
Отец Ефрем шёл довольно скорым ритмом, может быть, чуть быстрее, чем в оригинале, слишком точно, почти нечеловечески. Но Алекс за то и любил басиста Пятницу: играет как робот. Он вытаскивал на поверхность проклятые вопросы, от которых Алекса уже двадцать лет как тошнило: почему не уехал? Почему Алёна? Счастлив ли он на самом деле? Не есть ли вся его музыка заместительная терапия одиночества, несмотря на Алёну и это: навсегда вместе? Ответов не было, быть дрянью очень не хотелось. А отец Ефрем спрашивал и спрашивал, и уже шёл несколько впереди. Этого композиция позволить не могла.
Алекс рванулся вперёд. Поворот начинался с хрестоматийных аккордов, которые любая урла в конце восьмидесятых могла сыграть в подворотне, и которые Алекс по пьяни неоднократно брал как молитву от нечестного мордобоя. И в этот раз он не вынес их, уже не вынес, а надо было играть, и руки чуть подрагивали. Фендер страдал, дёргался в Алексовом теле и наконец издал тот самый очень высокий звук, с которого начинается собачий вой.
А дальше, проваливаясь по колено в деревенском снегу, пошёл отец Ефрем с ведром, неся Анне воду, а за ним бежала чёрная Пальма. Но это было уже в каком-то совершенно другом пространстве, потому что Пальма была в детстве отца Ефрема. Она падала на лапы, что-то объясняла, предупреждала, почти ругалась, показывала, куда идти, звала. А за столом домика сидела больная воспалением лёгких Анна. Она что-то говорила и говорила про то, как разбирают крышу её дома, про дохнущих индюшат и про то, как пять из них выжили, и один превратился в красавца Орла, Орлушу.
Еда, храм, потолок. Вот и всё, что видел за последние двадцать лет отец Ефрем. Почти аскеза. Дети – да, дети. Матушка – да, матушка. Но – вот такая крамольная мысль – это самостоятельные и не зависящие от него жизни. А вот Анна была связана с ним и, можно сказать, была человеческим воплощением его жизни. Ну что он знает о христианстве после двадцати лет священства? Да ничего. Он новичок в христианстве, кликуша, мать сирофиникийской девочки. Он ожидает исцеления всем и сразу. И он бесконечно чужой этой церковной жизни, которой когда-то так хотел. Он такой же неофит, как и его прихожане, и ему не стыдно это признать. Не унизительно – признать свою неспособность быть. В признании собственного недостоинства – признания не дежурного, а не дающего спать по ночам – и есть нечто христианское. Если верить святым отцам. И потому у отца Ефрема есть эта самая надежда спастись. Потому он здесь, и играет сатанинскую с чьей-то точки зрения музыку, ибо понимает про царя Давида не от ума, а от баса, гудящего ему в живот как ракетная установка.
Затем бас и ритм разошлись, каждый ушёл в своё житейское путешествие, но скорость дороги уже выросла, и сойти с неё стало невозможно. Нет, эта композиция не для балдежа, не потому что просто хорошо и классные аккорды. Это какое-то движение в поле очень высокого сопротивления, где даже сгореть не получится, хотя и возможно. Просто выбросит на обочину. И останется – немного быта и пива. Алекс видел, как это происходит, так отчасти и с ним самим. А отец Ефрем брал басовые аккорды как складывают дрова в поленницу и всё слушал, слушал что лопочет Анна о том, как у неё вдруг весной случился сердечный приступ, как пришли двое светлых юношей и стали её поднимать к воротам, которые ей показались чёрными. И Алекс тоже слушал этот бред, это странное напевное повествование, поднимающееся до молитвы, и шёл уже выше в тональности, уже к финальному повороту. Там было всё вместе: и бледное лицо Алины с бесцветными от передоза губами, и узкий рот Аськи, смотрящей на Толика, и руки Макса, сжимающие Алинины тетрадки. Там была вся – их совместная – история. И было бы глупо замыкаться в ней, и было бы глупо её не закончить.
Отец Ефрем вдруг, согласно сценарию композиции, тормознул, пару раз стукнул по деке острой фалангой и полетел под откос, увлекая Алекса с его фендером, сдирая кожу с ещё живой пьесы. Катастрофа наложилась на катастрофу, война на войну и смерть на смерть. Всё мироздание летело вниз по насыпи, и самое лучшее, что можно было сделать – пережидать шок и забыть о жалости. Может быть, получится выжить.
Вспомнилось, как Алина рассказала про первый и последний в её жизни перелом кости. Летом, в сильнейший июльский дождь, ехала с работы. Вышла из метро, зашла в магазин, купила красивую майку, индийскую. В окно магазина увидела, как подошёл автобус. Побежала, наступила в лужу и… сломала ногу. Присела, но не упала. Ещё не понимала, что произошло. И всё же дошла до остановки и со сломанной ногой влезла в следующий автобус, поддерживаемая людьми. А потом молодой человек с обручальным кольцом нёс её на руках до квартиры. Идущий изнутри гул шока – он кажется всегда один и тот же.
Отец Ефрем уже выделывал с партией что-то такое, отчего стало почти страшно, но уж точно восхитительно. Алекс, полностью положившись на монотонную мощную силу баса, начал выписывать второй эшелон, выходящий на место первого, этот нестройный хор, сменивший пронзительное вытьё. Всё это они: недопёски, отребье системы.
Шестьдесят седьмой – точка смерти. Хотя после шестьдесят седьмого написано было много прекрасной музыки. Но то были похороны. Странные похороны, из которых потом развился росток. И вот эти собаки, написанные в семьдесят седьмом – панихида к той панихиде.
- Да, панихида, - согласился отец Ефрем. Собаки и ему напоминали панихиду.
«Кто подох, сжав телефон».
Бас отца Ефрема шёл всё так же ровно, только чуть устало, и от этой небольшой усталости звук слипался. Превратился в единый голос в единой точной команде. Или даже – не команде, а фразе. В короткой ёмкой фразе, неожиданной, и всё же ожидаемой. Собаки! Тоталитаризм! Это часто приходилось слышать. Но тут было совсем о другом, и это скажет каждый, кто хоть раз играл собак. Все, по ком была панихида, возвращались на свои места – новые, неосязаемые, текучие сгустки силы. Сквозь эту стену ничто не могло бы пробиться. Может быть, даже Христос остановился бы перед ней, как некогда остановился перед десятью прокажёнными.
Отец Ефрем вёл на ледяной подъём. Успеть за ним было почти невозможно. И Алекс сделал второй рывок. Приходилось скидывать вещи, приходилось забывать и отказываться, а это противоречило принципам. Ну не любит он собак, не любит он терять. Но иначе за этим басом было не успеть. Алекс снова, как когда-то, играя это же место, увидел собаку. Она отчасти напоминала ему Алёну. Почти волчьи глаза, которые иногда становятся глазами Богородицы. Ну так ему виделось. Собака то припадала на лапы, то рвалась сухой яростной грудью вперёд с поводка. Он ждал, когда цепь, наконец, оборвётся, а собака прыгнет на дуло оружия… Цепь оборвалась. Фендер поднялся так высоко, как ещё не поднимался, и повёл-повёл, превращая всю композицию в один яркий всплеск пламени…
«Кто сгинул в улицы города,
Кто замер в каменной стойке».
Посидели, смотря друг на друга. Алекс закурил, забыв открыть форточку. Отец Ефрем не напомнил, да и сам посмотрел на Алексов «Честерфилд». Но курить не стал. Потом Алекс проверил, как записалось.
- Шибает, конечно. Но это ж сразу не ясно, что наваяли. Будешь ещё кофе?
- Нет, - сказал отец Ефрем и посмотрел на плакат с Ленноном: вдруг и удивительно счастливыми глазами, - а полежать можно?
- Конечно!
Алекс вспомнил, что на столе в кухне осталось немного нарезанной горбуши.
- Я сейчас. Поесть… Горбушу будешь?
- Буду.
Алёна должно быть видит чудесный сон. Да и запись должна быть удачной. Как хорошо, как же хорошо, и этот снег, и Зинины глаза… Когда Алекс вернулся, отец Ефрем лежал как будто в глубоком сне. Рука, только что ведшая Алекса по ледяным горам гениальной музыки, касалась пола и была почти синей.
- Пятница, ну-ка ты, Пятница…
Вызвал скорую, позвонил Максу. Всё происходило так тихо, будто кроме студии, в обычной жизни, можно выключить звук. Машина приехала довольно быстро. Открыла Алёна. Как услышала? Или не спала?
- Иди спать, Алекс, тебе на работу. Я сама в Склиф поеду.
Макс помог санитарам, упаковал бас, но забирать не стал:
- Это теперь реликвия. Мощи. Береги.
В рыло ему дать бы… Да всё никак не получается.
Уехали. Алекс походил, без мысли в голове. Лёг на то место, где только что лежал Пятница. И заснул. Так сразу и заснул. А во сне бэк-вокал рос и выходил в первую линию, нестройный хор, странное собрание. И уже не разобрать, где кончается один человек, а начинается другой. Откуда-то из верхней глубины возник рассказ Алины, с того же флэта на Полежаевской. Алина рассказала свой сон. Про то, как пришли солдаты. Такие же, как и те, в кого надо было стрелять. Две шеренги, одна против другой. Нестройная и чёткая. А она, подставившись под пули, бежит вдоль своей шеренги и кричит: становитесь, становитесь, сейчас в нас будут стрелять. Вот детство-то. Сколько ей было? Двадцать пять?
Кто сказал – больше никакого рок-н-ролла? Кто-то сказал. Так его и не будет, рока. И не было. А музыка – как назови, всё музыка. Хотя нет. Не просто музыка. В этих звуках возникало давно забытое пространство, назвать которое отчего-то было стыдно.
|