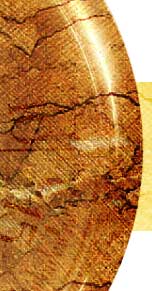АЛЕСКЕЙ ЕРОХИН
НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕСТИ
(на издание «Доктора Живаго» Бориса Пастернака)
«В мире книг», 1988 г.

«И надобно ещё спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих
гробах? Не живые ли люди похоронены в них?»
Н. Г. Чернышевский.
Поэзию охотнее роднят с музыкой, нежели с прозою, и это есть
комплимент заслуженный, параллель несомненная, - а параллели, согласно
Лобачевскому, способны пересечься, встретиться. Параллелизм же поэзии и прозы –
в нынешнем восприятии, во всяком случае, - более безоговорочен, более отвечает
воззрениям евклидовским: так несводимы стальные ручьи рельсов.
Но не все же смотреть под ноги – взгляните в ту даль, куда
там сходятся стальные лучи, вопреки эмпирике путейцев. Таков закон перспективы:
она не искажает действительного положения вещей, она объясняет их неявную,
неочевидную суть.
Лобачевский вовсе не имел в виду прозу и поэзию, но вывод
его в известном смысле применим к словесности.
В дальней перспективе отечественной литературы мы видим
«Слово о полку Игореве», синтезирующее начала поэтическое и прозаическое. Из
мощных доспехов гомеровских поэм вышли роман и баллада.
Запечатленное слово нашего века не склонно забывать о своей
генеалогии.
«Поэзия есть проза, проза не в смысле совокупности чьих бы
то ни было поэтический произведений, но сама проза в действии, а не в
беллетристическом пересказе. Поэзия есть язык органического факта, т. е факта с
живыми последствиями… Именно это, то есть чистая проза в ее первозданной
напряженности, и есть поэзия», - так не в специальном труде излагал Борис
Леонидович Пастернак, а вслух размышлял с трибуны первого писательского съезда,
считая осмысление сути поэтического слова первостепенной задачей дня.
Интересен, кстати, контекст: разговор на съезде сложился
таким образом, что шло выяснение – за кем же следовать впредь поэзии, за
Маяковским или за Пастернаком. (Постановка вопроса совершенно в духе
конкретного времени: в ход шла метода генеральной линии, равно прилагаемая как
к сельскому хозяйству, так и к поэзии.) Пастернак в эту полемику не вступил.
Современный комментатор нашел здесь повод для упрека: «То, что пастернак
говорил о поэзии, было нейтральным по отношению к возникшему спору, стояло в
стороне от основных проблем советской поэзии…» Однако, согласитесь, было бы
странным, если бы поэт сам предложился в головной штандарт, принялся бы тянуть
на себя знамя поэзии, декларировать себя в качестве несомненного образца для
всеобщего и безусловного подражания, этакого централизованного предписания для
широких поэтических масс, испытывающих потребность в идеальном ориентире. Нет,
не в сторону от главных проблем поэзии уходил тут Пастернак, а именно стремился
дойти «до самой сути».
И за пятнадцать лет до этого, в 1919 году, писал он в эссе
«Несколько положений» о поэзии и прозе, что «начала эти не существуют
отдельно». Всегда подтверждал это творчеством: читая прозу Пастернака, будь то
изящный арабеск «Апеллесовой черты», или нежная хроника бытия юной души –
«Детство Люверс», или «Охранная грамота» с ее вольной зоркостью и
полифоничностью переживаний, оказываешься в захватывающей стихии огромного,
живого, пульсирующего мира, осознаваемого и глубинно, и трепетно.
В принципе, издавая Пастернака, можно и не разносить, к5ак
это обычно принято, его прозу и поэзию по разным отсекам – они воспринимаются
едино. Не случайно он замечал в первых же строках своей прозаической «Повести»:
«Между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и
предлагаемой прозой разноречья не будет: это – одна жизнь». Об этом ещё много
будет написано, и можно только светло позавидовать тому таланту, который
осмелится взять на себя столь колоссальный труд, сумев, подобно самому
Пастернаку, «не исказить голоса жизни, звучащего в нас».
Вспомним размышления безымянного героя – поэта – в «Письмах
из Тулы» на ночном перроне: «Ночь в местах толстовской биографии. Диво ли, что
тут начинают плясать магнитные стрелки? Происшествие – в природе местности. Это
случай на территории совести, на ее
гравитирующем, рудоносном участке».
Территория совести – это выделено Пастернаком.
«Была ночь на всем протяжении сырой русской совести».
Близость станции Астапово диктует повышенный счёт к себе, к
времени.
И густая разветвленная сеть железных дорог и воздушных
путей, кровеносных сосудов и нервных окончаний связывает, пронизывает Россию
как единую местность, как единую территорию совести.
«Серел восток, и на
лицо всей, еще в глубокую ночь погруженной совести выпадала быстрая,
растерянная роса».
Неизбежно светает.
Закат бывает суров, как в «Апеллесовой черте»: «Зарева, как партизаны,
ползли по площадям. Улицы запружались опрокинутыми тенями, иные еще рубились в
тесных проходах».
Ночь бывает долгой – это зависит и от времени года, и от
особенностей местного климата. Но после – обязательно светает.
Тают тени. Тает ночная изморозь, казавшаяся в темноте вечной
мерзлотой, освобождая свежую зеленую траву – она все-таки уцелела под суровым
покровом.
А еще больше вот на что похоже. Помните, как в великой книге
Рабле Пантагрюэль, следуя Ледовитым морем на борту корабля «Таламега», услышал
вдруг невесть откуда взявшиеся людские возгласы, ржание коней, лязг и грохот
боя? Лоцман рассеял недоумение Пантагрюэля: здесь когда-то состоялось сражение,
звуки его замерзли в холодном воздухе, но теперь «суровая зима прошла, ее
сменила ясная и теплая погода, слова оттаивают и доходят до слуха».
И мы сейчас на палубе – слушаем оттаивающие в пространстве
нашей жизни голоса.
«Прикройте, нам шумно и дует», - доносится из трюма: там
купцы с тюками пряностей.
За бортом барахтаются бывшие корабельные крысы, плюхают
лапками, цепляются за штормтрап: было дело – попрыгали с перепугу куда глаза
глядят, а теперь увидели, что судно на хорошем ходу, и захотели обратно.
Оттаивают – вслух – слова, румяные с мороза. Не все еще
выговариваются отчетливо – задубели на холоде. Докашливаем свои ангины и
инфлюэнцы, короче: русскую хандру – «недуг, которого причину давно бы отыскать
пора», как предлагал еще Пушкин, - и ведь вроде нашли, а?
Оттаивают целые книги в теплых руках.
Вот и «Доктор Живаго» обрел законное гражданство под
опасливые вздохи снеговиков с пустыми дырявыми ведрами на обледенелых темечках.
Им вполне достаточно «Доктора Айболита» - зачем еще этот Живаго?
Беспокойно шевелятся морковные носы. Вчерашний ветерок глухо
доносит из 1958-го: «внутренний эмигрант», «человеконенавистник», «безродный
космополит», «злобный обыватель» «враг революции»… Ежатся снеговики.
Чешутся их метлы. Вот так в свое время упустили и некоего
Мастера с его легкомысленной Маргаритой. Тоже, знаете ли, тип: сомнительный
какой-то отщепенец, отгородившийся от поступательного хода социалистического
строительства и насущных народных нужд, строчит дурнопахнущую книжонку
религиозно-дурманного содержания вместо того, чтобы поехать на какой-нибудь
канал и воспеть соответствующий подвиг просветленных масс. А очернительство
творческой интеллигенции и совслужащих?! А разнузданная поповщина – не к
всеведущему идеологическому работнику идут эти, с позволения сказать, герои за
товарищеским и нелицеприятным советом, а упаднически прибегают к содействию
оккультных сил, протаскивая мракобесие и мистицизм! Ушел, все-таки ушел…
А теперь еще и доктор этот… Мало его тогда метлой…
Отчего, спросите, столько иронии?
Да оттого, что – стыдно. Стыдно. За нас, людей, стыдно,
вспоминая то, что произошло в 1958 году после выхода в Италии романа Бориса
Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго».
Книга была названа антинародным и антиреволюционным
пасквилем – и шквал самой яростной хулы обрушился на поэта. Все его творчество
было объявлено «сомнамбулическим бредом», причем негодовали на всю катушку и
те, кто не только в глаза не видел романа, но и о самом Пастернаке доселе и не
слышал. «Ничего о нем я до сих пор не знал, никогда его книг не читал». А уж в
выражениях не стеснялись!
Вот уж действительно – «факт с живыми последствиями».
Из резолюции московских писателей: «Ни один честный человек,
ни один писатель – все, кому дороги идеалы прогресса и мира, никогда не подадут
ему руки, как человеку, продавшему родину и ее народ!
Писатели Москвы были и будут вместе со своим народом, с
коммунистической партией всегда и во всем. Ещё теснее сплотившись, еще активнее
крепя свои неразрывные связи с жизнью, мы, писатели столицы нашей Родины, будем
помогать партии, правительству, народу в их величественной созидательной работе»
Вот так вот: «ни один честный человек»…
Аналогичные резолюции были приняты на собраниях писателей,
прошедших по стране единой волной – нет, не стихийной волной, а строго
санкционированной, предписанной.
Текст резолюции вообще занятный, поучительный. (Я на месте
издателей так и выпустил бы роман «Доктор Живаго» - со всем этим гарниром: в
назидание потомкам, да и современникам дорогим тоже.) Как тут не вспомнить
слова Александра Радищева: «Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку
любить свою пагубу».
Заклейменному поэту во всеуслышание было предложено изгнание
из страны.
В этой трагической ситуации русский советский писатель Борис
Леонидович Пастернак поступил как истинный гражданин и человек с чистой
совестью.
6 ноября 1958 года газета «Правда» опубликовала его
заявление – «сделать его заставляет меня мое уважение к правде», писал Пастернак.
Вот выдержки из него (подчеркнутое выделено мною).
В письме к руководителю государства «я заявил, что связан с
Россией рождением, жизнью и работой и что оставить ее и уйти в изгнание на
чужбину для меня немыслимо. Говоря об этой связи я имел в виду не только
родство с ее землей и природой, но, конечно, также и с ее народом, ее прошлым,
е славным настоящим и будущим».
«У меня никогда не было намерений принести вред своему
государству и своему народу».
«…Если принять во внимание заключения, вытекающие из
критического разбора романа, то выходит, будто я поддерживаю в романе следующие
ошибочные положения. Я как бы утверждаю, что всякая революция есть явление
исторически незаконное, что одним из таких явления является Октябрьская
революция, что она принесла России несчастья и привела к гибели русскую
приемственную интеллигенцию.
Мне ясно, что под такими утверждениями, доведенными до
нелепости, я не в состоянии подписаться. Между тем мой труд, награжденный
Нобелевской премией, дал повод к такому прискорбному толкованию, и это причина,
почему в конце концов, я от премии отказался».
«…Ничто на свете не может заставить меня покривить душой или
поступить так против своей совести. Так было и на этот раз».
Пастернак не встал на колени и не отрекся от своего детища.
Он помнил, что живет на территории совести, в то время как
столько многие об этом предпочитали не думать.
Я не буду пока что говорить непосредственно о романе –
честно говоря, чуть робею пред этим произведением, евангелием российской
интеллигенции. Понимаете, такое чувство… Как бы это объяснить… Ну вот,
представьте: у вас в подполе годы прятался дорогой вам человек, выходя только
ночью, сотерегаясь в окно выглянуть. И наконец – амнистия или что-то в этом
роде. Со скрипом подымается крышка подпола. Он выходит на свет. И о сольком вы
уже с ним за эти годы переговорили, о стольком вместе передумали, что теперь
первым делом хочется просто шагнуть на волю, сесть вместе на лавочке у ворот –
и просто помолчать… Вот так.
Да и не хочется, признаться, выглядеть шустрым петушком,
сломя голову спешащим откукарекаться в первых рядах после того, как тридцать
лет молчали.
Да и есть более светлые умы – по «гамбургскому счету» им
первым слово.
Да и сам роман еще только-только пришел к читателю – то есть
к так называемому широкому читателю. Поэтому – читайте, читайте не торопясь, а
поговорить-то теперь успеем. На то и карт-бланш.
«Прекратите разговоры по углам и слушайте внимательно», как
советует в романе Юрий Андреевич Живаго, этот российский Гамлет.
Внимательно слушайте эту книгу.
И только один совет: читая роман, почаще открывайте
одновременно другие страницы Пастернака, ведь это все – единая жизнь, единая
судьбаЮ единая книга.
Книга, которая «есть кубический кусок горячей, дымящейся
совести – и больше ничего».
А что касается «разговоров по углам»…
Хочется сразу предостеречь тех, кто априори готов воспринять
роман Пастернака как какую-то «политическую клубничку»!, вкусить «антисоветчины»
(занятный, кстати, термин: коли есть «антисоветчина», то существует, стало
быть, и собственно «советчина», так?). «Доктор Живаго» - это «просто» подлинная
литература.
И этот роман, и многие другие «реабилитированные» ныне
страницы отечественной литературы – «просто» необходимая часть нашего духовного
мировоззрения (если, конечно, есть потребность его обрести, поскольку сие
отнюдь не обязательно можно жить припеваючи и с абсолюбно чистой совестью,
ориентируясь лишь на очередные газетные клише).
То, что мы наконец обретаем сейчас, вызывает подчас странные
споры, и тут уместно вспомнить слова Чернышевского – цитата, извините,
длинновата, но, с другой стороны, часто ли мы перечитываем его «Очерки
гоголевского периода русской литературы»? Вот, пожалуйста:
«Читатели могут заметить в наших словах отголосок бессильной
нерешительности, овладевшей русский литературою в последние годы. Они могут
сказать: «вы хотите движения вперед, и откуда же предполагаете вы подчерпнуть
силы для этого движения? Не в настоящем, не в живом, а в прошедшем, в мертвом.
Неодобрительны те воззвания к новой деятельности, которые ставят идеалы себе в
прошедшем, а не в будущем. Только сила отрицания от всего прошедшего есть сила,
создающая нечто новое и лучшее». Читатели отчасти будут правы. Но и мы не
совершенно неправы. Падающему всякая опора хороша, лишь бы подняться на ноги; и
что же делать, если наше время не выказывает себя способным держаться на ногах
собственными силами? И что же делать, если этот падающий может опереться только
на гробы? И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах?
Не живые ли люди похоронены в них? По крайней мере, не гораздо ли более жизни в
этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми? Ведь если слово
писателя одушевлено идеею правды, стремлением к благотворному действию на
умственную жизнь общества, это слово заключает в себе семена жизни, оно никогда
не будет мертво».
Предвижу, правда, еще вот такой «детский» вопрос: ну, хорошо,
а если не «антисоветчина», то почему ж тогда запретили-то?
Попробую объяснить.
Причина – элементарное недоверие. Не просто недоверие к
Пастернаку – а недоверие к народу в целом. То есть к нам с вами. Своеобразный
парадокс перетворения в жизнь социалистической идеологии: прекрасная идея
единения то и дело странным образом оборачивалась и оборачивается практикой
размежевания, расщепления.
Вот возьмите понятие «генеральная линия». То, что само по
себе совершенно естественно в жизни общества, заключенного в рамки того или
иного государства. Суть тут в том, как эту линию провести. Скажем, к дерева
тоже есть «генеральная линия»: ствол. Но это же вовсе не значит, что во имя
торжества ствола надобно обрубать ветви, не так ли? И стоит ли ставить задачу
спрямления мозговых извилин, взяв за эталон по-своему целесообразную прямую
кишку?
Не случайно мы так прекрасно знаем формулу: «не усложняйте».
Чрезвычайно знаменательное выражение! Не усложняйте, проще надо, проще…
Проще – обрубить ветви.
«Да будь ты попроще… Ах, не хочешь?! Отщепенец!»
Смотрите, опять интересное слово: ведь говоря по-русски,
отщепиться нельзя, можно только отщепить… Например, топором. О, великий и
могучий родной язык, тебя не обманешь, ты всегда говоришь правду. Не вдумываться
в тебя – проще.
И куда проще стоять на своем, если заткнуть другим глотки:
вдруг скажут что-нибудь такое, до чего еще не додумался или думать не хочешь.
Отсюда и недоверие.
Но как же разобраться – где свои, где чужие? Проще – чохом: на
уровне социальных групп. Значит, так: эти у нас пашут, эти куют, эти торгуют,
эти воют – с ними все ясно. А эти что делают? Думают? А О ЧЕМ? Проще – чтобы об
одном и том же. Попроще надо быть, товарищи, попроще. Вот у нас вот и народ
ведь такой – простой. А вы – непростые? Ну, значит, вы не народ! Значит, нельзя
вам доверять.
… «антинародность романа Пастернака, дух ненависти и
презрения к простому человеку…»
Господи, говорю я, ну сколько ж можно этой мистики! Вразуми
родной язык!
«Словарь синонимов русского языка», стр. 434;
«ПРОСТОЙ: несложный, примитивный, неприхотливый,
незатейливый, безыскусный, незамысловатый, непритязательный, скромный,
нехитрый, бесхитростный, немудрый, немудреный, простецкий, немудрящий…
Простолюдин – см. плебей».
Стоп, это я уж зачитался.
Что ли есть какой ведомственный, «для служебного пользования»
словарь, в котором «простой» означает «хороший», «истинный», «правильный» и т. Д.
Вплоть до «нас устраивающий»?
«Простой народ» - это вообще-то оскорбительно.
Зато как просто разделить, расщепить – и от имени этого
самого «простого народа» упрощать себе жизнь…
Назвать народ простым – и значит не доверять ему: слишком-де
прост. И значит это – пробуждать в нем, в народе, простой примитивный рефлекс
недоверия.
Недоверие расщепляет общество. Между тем, сама Природа
подсказывает: соединение атомов образует материю, расщепление атомов вызывает
всеуничтожающий взрыв.
Впрочем, это уж слишком похоже на проповедь.
Роман «Доктор Живаго» вышел на свет.
Отрубленные ветви приживаются с трудом. Но здесь не тот
случай. Эту прекрасную ветвь древа российской литературы отрубить не удалось. –
только завесили на время грязным тряпьем.
И теперь особенно становится ясно: всю жизнь Борис
Леонидович Пастернак словно творил одну огромную книгу, в которой мир
человеческой личности озаряется небесным светом, пронизывается атмосферными ветрами
и делится плотью с горячей землею, книгу, в которой человек и эпоха существую в
нераздельном радостном и трагическом единстве, книгу, создаваемую во имя правды
и красоты, чести и совести.
«Неумение найьт и сказать правду, - писал Пастернак, -
недостаток, которого никаким уменьем говорить неправду не покрыть. Книга –
живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: картины и сцены – это то, что
она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть».
…И не согласна забыть.
|