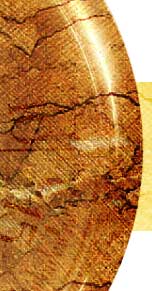ДАВЫДОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В цеховом пространстве, которое волей-неволей сложилось в последние двадцать лет (с фатальным центром в Москве), да и в любом, когда-либо возникавшем цеховом пространстве – есть связи между людьми, которые с течением лет не изменяются. Мне совершенно невозможно представить Данилу Давыдова мэтром, профессором, кандидатом. Тем не менее, Давыдов – и мэтр, и кандидат, и профессором будет (если ещё не стал). И даже если это так, для меня Давыдов – последний лепесток голубой незабудки иенских романтиков. Сон, гётевское имя: Генрих, Новалис. Как было при первом впечатлении. Как и осталось. Впервые я увидела Давыдова в квартире поэта и художника Алексея Корецкого, на Преображенской Площади. Была осень 1995 г. Эта квартира была штабом поэтического образования «Междуречье», а сердцем и мозгом «Междуречья» был Корецкий. По рассказам, которые уже получили статус преданий, Давыдов подошёл к Корецкому после одного из выступлений в Литературном институте и заговорил. Корецкий пригласил новенького на заседание Междуречья. А нам, ещё Давыдова не знавшим, рассказал о нём как о каком-то необыкновенном юноше, гении. Именно этот «гений» и создал моё первое впечатление. Если бы не это слово, я ничего необычного не увидела в старом, конопляного цвета вельветовом пиджаке, спутанных волосах и как-то косо наклонённой вперёд голове. Ну да, вот такие потёртые и выносят мозги – всем и всегда. «Гений»! Когда Давыдов заговорил, впечатление переменилось. И ужасно захотелось его причесать. Что я озвучила: мол, вас надо расчесать. «Пробовали», - ответил Давыдов и мрачно замолчал. Но разговор продолжался, Давыдов посылал реплики, страстно, беспокойно, подпрыгивая на стуле как крокодил на хвосте, глаза сверкали – и впечатление обычного тусовщика ушло. Некоторое время спустя Давыдов принёс мне свои стихи, довольно большое количество страниц. И рассказ «Филобиблон». Всё это было ново, необычно и тревожило. Он писал портрет обречённости – угасающего, умирающего, последнего. Это же было и в красивом, немного наивном художественно «Филобиблоне». Это слово – с ног на голову – привлекало. Давыдов литературы начался тогда, когда закончился Давыдов романтизма. До того, как состоялось знакомство с литературным сообществом, этот первокурсник, ушедший с философского факультета Университета, знал только двух-трёх людей, которых с натяжкой можно было назвать литераторами. И вот, осенью в его жизни возник Корецкий с «Междуречьем». Давыдов рассказывал много, охотно, мило картавил. Ничего подобного ранее я не слышала. Казалось, он читал всё. Гегель-Шлегель, Борхес-Маркес. Он слушал "Coil”. На фоне ночного неба летали довольно густые ещё черные волосы – ну просто Шелли. Вдобавок он носил тёмно-синий свитер, который ему очень шёл. Мы покупали кассеты, часами говорили о музыке и стихах. Он заявлял о себе как герой Гёте: я альфонс. Или: я должен реализовать нереализованный потенциал моего отца. Об отце он рассказывал почти взахлёб, и это тоже – часть его литературной биографии. Или: я должен собрать самую большую библиотеку, чтобы государство содержало её. Как-то раз, в состоянии мрачно-возмущённом, поведал, как во время одной вечеринки он лёг на пол и крикнул: «Я Сонечка Мармеладова русской литературы. Убейте меня!». В другой раз он заявил: я шкаф. Там много ящичков, и в каждом – нечто очень мне дорогое. Я не могу выбрать самое дорогое. Ему нужно было всё – стихи, проза, критика – и от всех. Тогда у него ещё не выстроилось стойких симпатий, и он копил, копил, копил – чужие стихи, рассказы, знакомства. Он собирался стать всем – поэтом, прозаиком, критиком, профессором. Словом, занять самое большое и значительное место в литературе. И эта мысль посетила его в тот период, когда стало ясно, какое у нас всех мелкое дно и как мы все сами мелки. Это надо было прочувствовать – а для этого надо был там жить, видеть Чеховку в то время, людей, ходивших туда и говорить с ними. Литературный мир был вполне ущербным. «Вавилон» казался чем-то вроде комсомольской ячейки, но ощущение зыбкости было во всём. Давыдова это не останавливало. Знакомство Давыдова с Кузьминым состоялось зимой 1996, в буфете Чеховки. Мне сразу стало ясно, что эти две системы сработаются. Было немного печально терять Давыдова – тогда он набирал знакомства, как наркоман дозу. Так что большая часть его времени уходила на питие и разговоры с литераторами. Но некоторые черты романтика ещё сохранялись. Он рассказывал, как по ночам в своей крохотной двушке слушает "Coil”. И читает. О прочитанном он рассказывал великолепно. Ему было всего восемнадцать, ещё не было девятнадцати, а все замечали, что он начитан на все сорок. Он спал днём, жил ночью, утром шёл в институт, и спал в институте. Девушки ему объяснялись в любви по-французски. Он пытался жить обычной рассеянно-приятной литературной жизнью, всё это было совсем не его – но он так хотел. Новые стихи мне казались более скучными, но в самом Давыдове стало меньше романтизма и больше плоти. Мрачного, или как я выражалась тогда, опиумного, блеска в глазах не стало. Идея ушла в материю, материя начала занимать новые литературные пространства. Зато Давыдов научился манипулировать людьми и текстами. У него как-то сразу получилось перепрыгнуть из молодого и талантливого Дани в Давыдова, за какие-то полтора года. Потом начались конференции, презентации, поездки и прочее. К началу двухтысячных от Гётевского героя не осталось ничего. Мало кто носит на себе столько отметин времени, как Давыдов. Если вспомнить – болото середины девяностых было гораздо более гиблым, чем селевой поток молодой литературы, развившийся к концу девяностых - в самые первые нулевые годы. Именно тогда Кузьмин повесил на шею Давыдову «Вавилон». Я выдерживала бои, объясняя, почему выбираю именно стихи Давыдова и отличаю их от стихов других авторов. Тут были и романтизм, и рефлексия на рефлексию, и философия. Работа о «Тонких вещах» до сих пор где-то лежит, а Давыдову она нравилась. Потом, это была первая большая работа о его стихах. Её так и не опубликовали. Давыдов наоборот, закатывал меня в песок – мол, мы все поэты и красавцы, как у Окуджавы. Если она личность – ДГ, например, тоже личность. Но рецензию на «Третий голос» написал и кроме этой рецензии поддерживал меня. А тогда я на себе ставила довольно рискованный литературный эксперимент. При том, что Давыдов располнел, его шаг – от романтического образа к образу хозяина словесности, был смелым и требовал много сил. Не знаю, какое сравнение употребить, да и нужны ли сравнения. Давыдов сделал с собой что-то вроде того, что делают герои его рассказов. Он был пламенным юношей с незабудкой в глазах – стал мэтром не самого плохого литературного сообщества. Так что никому не обидно.
|