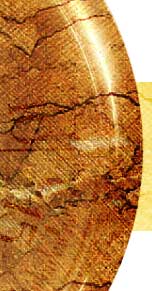ЗАМЕТКИ О ПЕЙЗАЖЕ У ГОГОЛЯ
Золотушный отрок окаменел, увидев сухое
дерево в углу любимого сада. Неслыханное доселе им древесное величие
всколыхнуло в потомке души усопших священников предыдущих колен его рода.
Дерево одновременно клонилось к земле ветвями своими и к ночному небу -
клонилось. Оно вонзалось в самое сердце.
Немного лет спустя молодой человек с лисьей
повадкой, со взглядом семинариста и гуляки, как в тыл врага, вступит в
Петербург.
А корни видения о дереве
теплились под иссохшим телом. Они теплились, подобно именам в церковных
метриках, под суровым слоем пыли и земли, цепенея, но тем вернее сохраняя
древнее тепло. Жесты их сонные сцеплялись друг с другом в орнамент,
обозначающий, как на священнической мантии, самого Творца, запечатленного в творении
своем. Творение же стремилось к Творцу косой дорогой прописных знаков...
«...удалось добыть дневник
одного из старейших священников Миргородского уезда, отца Владимира Яновского,
который приходится троюродным братом Николаю Гоголю. Из дневника этого видно,
что род Гоголь-Яновских ведет свое начало от Ивана Яковлевича (фамилии в
документах нет), выходца из Польши, который в 1695 году был назначен в Троицкой
церкви города Лубен «викарным» священником: вскоре же он был переведен во вновь
устроенную Успенскую церковь села Кононовки того же уезда. ..Продолжателями
рода и преемниками духовной власти Ивана Яковлевича были: сын его Дамиан
Иоаннов Яновский( можно думать, что фамилия - от имени отца Ивана, по-польски -
Яна), также священник кононовской Успенской церкви; далее родословная Яновских
идет по двум параллельным линиям: 1. Сын о. Дамиана Афанасий Дамианович, уже
Гоголь-Яновский, «пример-маиор», как
сказано в семейной летописи; сын его Василий и внук Николай, писатель. 2.
Кирилл Дамианович - священник кононовской церкви; его дети Меркурий и Савва,
оба священники: первый - в Кононовке, второй - в Омфировке, Миргородского
уезда.»
(Священник Ал. Петровский. К вопросу о предках Гоголя. Полтавские
губернские Ведомости за 1902год, №36. Цитата по В. Вересаев, Гоголь в жизни:
Мск. Раб. 1990, с.27)
Сказание
о Земле Обетованной - едва ли не Малороссии, росло и ширилось мощной кроной в
хилом тельце, пораженном неизвестно за какие грехи, золотухой, в душе по-детски
сухой и чопорной. Оно вело как на подвиги - на самые нелепые поступки, но было
в крови, как любовь к сладостям и как запорожская лень. Двуязыкость хорошела в
нем с каждым годом, с каждым новым походом на базар за сладостями. Его мистечковая
русско-польско-украйонская интонация, так блистательно проявившая себя в
Петербурге, еще дремала в пеленах, покрытых следами золотухи. Возлюбленные виды, навылет ранившие душу,
подобную сухому дереву, составили полное и окончательное его счастие.
« Мне пришло на память одно
происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал в себе маленькую страсть к
живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого
раскидывалось сухое дерево.» ( Н. В. Гоголь. Арабески, ч.
1. «Несколько слов о Пушкине») - «Эту картину показывали мне в Васильевке. Она
написана клеевыми красками на загрунтованном красным грунтом холсте. Длиною в
1,5 и шириною в 1 аршин. Представляет беседку над прудом посреди высоких дерев,
между которыми одно с засохшими ветвями.
Деревья, как видно, скопированы с чего-нибудь, а беседка сочинена вся или
отчасти самим художником. Замечательны в ней решетчатые остроконечные окна.
Подобные окна есть и теперь в Васильевке, в небольшом флигельке в саду». ( цит
по В. Вересаев, Гоголь в жизни, стр 59.)
Одно к одному строятся сухие деревья, сливаясь в одно искомое, растущее на
Земле Обетованной. И это уже не просто дерево - это древко знамени Слова. И не
зря на закате своем увидит писатель ослепительную белую вспышку: «Белый колоссальный ствол березы, лишенной верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и
круглился на воздухе, как правильная мраморная колонна; косой остроконечный
излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной
белизне его как шапка или черная птица». (Н. В. Гоголь, «Мертвые души», т.1,
гл.6). Древко знамени - колонна идеи, столп идеи, один и остался. Знамя
обуглено. Черная птица - обугленная птица. Или пророческий ворон, распростерший
свои крыла надо всею гоголевской долей? Дерево без верхушки - и священнический
род, поделившийся надвое, двойственностью своей всю плоть писателя пронизавший,
желание священства - и его невозможность? Неудавшееся профессорство? Народ
малый малороссийский, русские иудеи с Киевом, Иерусалимом своим, во главе? Душа
народа, грозою поверженного. Из века семнадцатого, из соединения сухого дерева
со всей жестокой российской гущей - корни ползут.
Таинственные Сковорода и
Котляревский улыбались как запорожцы из «Тараса Бульбы» проделкам нового героя.
Ну и что из того, что «Энеида»
переведена на украинский? Так ведь и сам русский язык лопочет, как его ненько навчила. В кругу домашних Пушкин
говорил, смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так,
что и кричать нельзя» (цит по В. Вересаев, Гоголь в жизни, стр 179). На что
обирает - ясно: родные поля и леса.
Они сами как бы ложатся под руки
писателю, радуя любой взор. Они так обширны и надышаны, что неоднократно
возникает задняя мысль: не ради них ли все это затевалось?
«...Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то
пространство, которое составляло нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря,
было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым
волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу,
вытаптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли
представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных
цветов. Сквозь тонкие высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые
волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая
кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный, Бог знает,
откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли
куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью различных птичьих
свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно
устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей
отдавался, Бог весть, в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными
взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в
вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед
солнцем... Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким
отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала
по нем, и она становилась темнозеленою; испарения подымались гуще, каждый
цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По
небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью, наляраны были широкие
полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и
самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по
верхушкам травы и чуть дотрагивался до щек. Вся музыка, звучавшая днем, утихала
и сменялась другою. Пестрые суслики выпархивали из нор своих, становились на
задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее.
Иногда слышался из какого-нибудь
уединенного озера крик лебедя, и, как серебро, отдавался в воздухе...
Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по
лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север,
вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки
летели по темному небу».
Как здесь все узнаваемо - и
узнаваемо не потому, что подобные картины возникают часто перед мысленным или
чувственным взором нашим. Узнавание ведется из глубины едва ли не
дочеловеческой, какой-то райской, не имеющих, по роду своему, рабочего
определения для нашего языка. Соседство чайки, гусей и ястребов - не счастливый
ли признак всеобщего мира, где и лев рядом с ягненком? Кони - не думы ли,
сосредоточенные Господней десницей с своем порыве? Каково же население мест
этих, если думы коням подобны? И как все описываемое близко, не пугливо,
доступно! Описание вырастает словно бы само по себе, цепляясь словами за слова
и фразой за фразу, как дикое растение, как лоза. Но едва попробуешь
прикоснуться к нему - как чувство отмечает крепкий костяк, на который все это
наверчено.
Иное качество здесь, в этих
непростых степях и лесах. Качество глубокое и трудное, напоминающее
одновременно и театр, и галлюцинацию, но лишь напоминающее. И лишь отчасти
можно обозначить это качество близостью писателя, да и то в ранние годы и
недолго, к народной культуре. Слишком городской человек был Гоголь. Здесь уже
четко обозначилась проблема литератора и человека религиозного, и еще дальше -
подобно чайке, замаячил вопрос о происхождении дара писательского и его
предназначении.
Все это читается через образы пейзажа. Ни столкновением
характеров, ни столкновением событий не так замечательны творения Гоголя, как
расположением и устройством пейзажных полотен. И характеры, и события
формируются в творениях под непосредственным влиянием пейзажа, места действия.
Пейзаж, как режиссер в партере, наблюдает действа, им сочиненные. Повести
Гоголя смотрят глазами пейзажа, и в них отражается все - и будущее, и
настоящее. Это - живописные полотна в галереях Гоголевской прозы. Хороша же, по
собственному определению писателя, его маленькая страсть к живописи!
Любитель живописи угадывается в
писателе Гоголе почти в каждом произведении. Он щедро бросает свет и тени, дабы
ярче и рельефнее представить изображаемое. Пейзажи его намеренно скупы: горы,
река, лес - но скупость эта подымает из значение до колоссального.
Словно
бы посередине всего действа, Бог весть когда и кем затеянного, дремлет одна
только нехитрая сказочка, ради которой все и затевалось. Именно дремлет - не будите
страшную сказочку! Иначе затрещат леса и горы, выйдут из берегов реки - и
никогда более не случится видеть нам родных степей и полей!
Безусловно, на стилистику каждого
автора повлияли читанные в раннем отрочестве книги. И до старости писатель
остается юным читателем, и уверен, что нет лучших книг, чем те, которые в
детстве читал, да тех, которые сам написал. Но самые ранние замладенческие
впечатления, родинки на душе, уже сыграли свою роковую роль в выборе творческой
судьбы. Конечно, Арины Родионовны у Гоголя не было. Но была красавица-мать,
прекрасная рассказчица, и истории, так живо трепещущие на страницах Вечеров,
едва ли не с колыбели были знакомы писателю. Далее были торговцы и торговки на
Нежинском базаре.
Интересно: персонаж во всех
творениях Гоголя низводится - так или иначе - низводится до уровня вещи,
чего-то неподвижного, и самый характер персонажа можно определить вещными
эпитетами. И - рядом же - вещи( и элементы пейзажа в том числе) наделяются
антропоморфными признаками. Словно бы когда уходит человек - начинает говорить
вещь. Метафоры в этой области - уже не совсем метафоры, но действия,
сопоставимые с математическими: сложения, например. Когда к вещи прибавляется
человечий признак. Или неустойчивому образу, для вящей крепости, прибавляется
признак вещный - едва ли не вещий.
Одним из таких оживших предметов -
возвышенных предметов, по Гоголю, является Дорога. Этот образ проявляет себя в
каждом творении, и нет ни одного, где Дорога, под каким-либо приличным
обстановке именем , не появлялась бы. Это может быть дорога в город или из
города. Это может быть городская улица. Это может быть река и мост над рекой.
Это может быть и воздушная дорога - как в «Ночи перед Рождеством» или «Вие».
Дорога проходит поблизости - и
очень часто возле - водной стихии, чаще всего реки. Река и дорога пересекаются;
соответственно, разделяются и соединяются через непременно возникающий образ
моста. Река, дно которой невозможно рассмотреть и жизнь которой непостижима
человеку, отражает мысль о запредельном, ином существовании. Недалеко от нее
отстоят лес и горы. Кстати, излюбленный гоголевский пейзаж так и выглядит -
дорога, река и мост через нее, лес(сухое дерево где-нибудь выглядывает) и горы.
Степи, селения и вся прочая тоже разрешаются по этой формуле. Дома приобретают
значение гор, улицы узкие - моста, улицы широкие - водной стихии, той же
дороги.
Но так или иначе, дорога пересекает
границу. Что это за граница - можно только догадываться. Автор сам не может
определить ее. Это Граница, вырастающая из границы между Творчеством и
материей, между разумом и безумием, между беснованием и пророчеством, граница
зыбкая, но упругая, и как смешано наречие населения приграничных областей, так
и нельзя четко определить, когда же начинается одно и когда закончилось другое.
Поэтому Дорога у Гоголя не имеет четкого начала и четкого конца, и примеров
тому - множество. Никто не знает, когда начались странствия Чичикова, и чем они
завершились. И в «Страшной мести» исток и исход словно бы упрятаны - и
соединены тем, что оба лежат вне текстового поля, упрятаны едва ли не за край
земли.
Однако Дорога имеет два четких
характера, выраженных двумя знаменитыми отрывками: Днепр и Русь-тройка.
Характеры противоположные и соплетенные неразрывно. Обособленность Днепра,
возведенная в неслыханную степень, вмещает в себя все - и смежность множества
понятий сливаются в едином образе Руси-тройки. Как Днепр являет собой чудесный
образец пейзажного письма Гоголя, так и Русь-тройка. Но в Днепре, в отличие от
Тройки, еще не четко расставлены акценты и не все подобраны определения, мысль
еще не спеклась, не изжила свое холодное тело, не почивает на воздусех, но уже
стремится к ним и чует в себе силы необоримые.
Итак, Днепр: « Чуден Днепр при
тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои!
Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая
ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в
длину, реет и вьется по земному миру.
Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вершины и погрузить лучи в холод
стеклянных вод, и прибрежным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! Они толпятся вместе с полевыми
цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются
светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть:
никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до
середины Днепра. Пышный! ему нет
равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает, и
человек, и зверь, и птица; а Бог один величаво
озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды
горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в
темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною
тенью своею - напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий,
синий, ходит он плавным разливом и средь ночи, как середь дня; виден за столько
вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь ближе к
берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает,
будто полоса дамасской сабли; а он,
синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки равной ему в мире! Когда
же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат
и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир - страшен тогда Днепр!
Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и
плачут, и заливаются вдали...»
В одном отрывке этом заключена вся
палитра гоголевского пейзажа - начиная с первых строк «Сорочинской ярмарки» и
заканчивая последними строками первого тома «Мертвых душ». Здесь и летняя ночь
со звездами и теплой тишиной, и черный лес, и древние горы, и река-красавица, и
светлые леса - зеленокудрые, по тексту, и молния, пронизывающая сиянием своим
весь текст - от самого начала( сравнение воды и стекла - стеклянные воды, создается образ острый, но подвижный, текучий) и
до конца, где уже впрямую река уподобляется сабле. И огромное движение, единое
для всего мира, собирающее в себя все, что только возможно - и не возможно.
Устойчивые эпитеты: черный лес, пышный Днепр, теплая летняя ночь, зеленокудрые
леса. Устойчивые образы: звезды, отраженные в неподвижной воде, молния из туч,
подобных горам, река, не подвластная ни природе, ни человеку, а только Богу .
Ряд синонимов развивает идею устойчивого качества: блестящий - это и стеклянный, и блистающий, и освещающий, и
подобный стали, и подобный серебру, и сверкающий как зрачок - словом, все
возможные простые и сложные варианты. Качество это имеет для Гоголя значение
определяющее. Через него, как через зрачок, раскрывается суть изображаемого
явления.
Приведем еще один фрагмент,
описание Днепра из «Тараса Бульбы» : «В воздухе вдруг захолодало; они
(путешественники - Н.Ч.) почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился
от горизонта. Он веял холодными волнами
и расстилался ближе, ближе, и, наконец, обхватил
половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле
спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел как море , разлившись по воле; где брошенные в середину его
острова вытесняли его еще далее из
берегов, и волны его стлались широко по
земле, не встречая ни утесов, на возвышений.» Как видим, даже в небольшом
по объему отрывке сохранена схема ( здесь почти лишенная прибавлений),
выведенная Гоголем для изображения ландшафта: предмет( водная стихия, горы, лес
или степь) в высшем своем качестве минус все остальное. Предмет заполняет собою
пространство, превосходит границы пространства, вбирая в себя все, относящееся
к нему и не относящееся, на пути к новому качеству. Признаком этого качества
служит у Гоголя непрестанное движение. Движение само - качество, но Гоголь, как
верный ученик эпохи барокко, стремился запечатлеть нечто высшее в качестве -
качество качества. Для него не существовало просто движения - для него
очевидным было только движение, объединяющее вся возможные движения и все
возможные качества движения - то есть, движение в Боге. И в реке, и в жизни
Сечи, и в описании запорожско-польской войны писатель стремился выразить именно
его - отсюда такое обилие тяжеловатых и парадных эпитетов.
Определения, щедро раздаваемые
писателем полноводной реке и всему ее окружению - а окружает ее весь мир, в
этом сомнений быть не может, создают впечатление поношенного парадного камзола.
Словно бы старик Державин благословил не Пушкина, а Гоголя( вот он, хохол,
показал характер!). Одни восклицательные знаки в количестве десятка - чего
стоят, не говоря уже о гремящих водяных холмах. Так и вспоминается: «алмазна
сыплется гора». Олицетворения по смелости своей, граничащей с двусмысленностью,
превосходят любой державинизм и сопоставимы только с первобытным лепетом
какого-нибудь эскимоса. Где тут скатерть-самобранка, самолетова жена?
Несмотря на то, что Днепр - суть
генеральная репетиция гоголевского переустройства мира путем написания пейзажа,
обратимся к нему с другого берега; а именно, с того, что отрывок этот является
и показательным моментом того, как Гоголь изображает водную стихию. Днепр
персонифицирован Гоголем как всепобеждающая и грозная сила, выходящая за рамки
повиновения природе и, уж конечно, человеку. Это уже не река, но Нечто,
обтекающее весь мир, заключающее его в себе, но по виду и качествам своим
подобное реке.
Галерея портретов реки в
произведениях Гоголя впечатляет. Окрестности меняются, меняется ширина,
характер течения - но суть изображения, подчеркнутая знаками своенравными, блестящими, стеклянными,
остается. Взгляните, как похоже на Днепр изображение Псела: «Сквозь темно и
светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей
засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно
обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев.
Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно
заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные
плечи и мраморную шею, осененною темною, упавшею с русой головы, волною, когда
с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам её
конца нет, - она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе
новый путь и окружая себя новыми разнообразными ландшафтами». И здесь - во всей
силе своей - гоголевский особый холодный блеск. Блеск холодно закаленного
оружия в Божией деснице. Оружия, никому более не подвластного - своенравного,
смертельного для любого другого. Образ реки у Гоголя - и образ библейского
Ангела с мечом - и без всяких скидок на народные обычаи. Блеск воды
нестерпимый, режущий глаза - уравновешен блеском смертельной стали, одно
отражает другое. Через оба образа возможно прочитать, что триада
река-сталь-зеркало с характерным устойчивым эпитетом сверкающий, блистающий, ослепительный, значит для Гоголя и стихию
и, одновременно, орудие высшей силы. Одно другому не противоречит.
В старину бытовало поверие, что
судьба воина - его меч. Не промахнулись предки. Если образ Дороги, лелеемый
Гоголем, сопоставим с предназначением человека, то и река - как дочь и
соперница этого образа, тем более. Это не просто предназначение - но
предназначение воина. И еще дальше - воина Духа Святого.
Священники,
наследовавшие кононовский приход, неустанно литургисали, и голоса их до самых
корней тревожили сухое писательское одеревенелое тело.
Но вернемся к воде. Водная стихия
как река преобладает в видении мира по Гоголю. Но отнюдь не значит, что это
единственный источник этой стихии. В «Тарасе Бульбе» упоминаются озера и пруды,
великолепное описание пруда открывается и в знаменитой «Украинской ночи»:
«Знаете ли вы ураинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в
нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный
небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля
вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон
неги, и движется океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!
Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя.
Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак
вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов...». Гоголь определяет
качество воды как качество льда или стали - холодная.
Это качество присутствует во всяком описании водной стихии. Кроме этого, Гоголь
употребляет еще два ведущих определения: днем у него воды светлые, а ночью - обязательно темные.
Но простые эти слова, присоседившись к
грозным и величественным
хвалебным эпитетам ( величаво раскинулся и т д), приобретают более высокий
смысл и становятся выразителями не только формы, но и сути. Так проявляет себя
гоголевский почерк - путем исследования формы вскрывать суть явления, в
процессе исследования обязательно нагромоздив одно на другое самые невероятные,
и почти тривиальные, и оригинальные синонимы. Ни чем так не характерен Гоголь,
особенно ранней и средней поры творчества, как обилием синонимов по самому
малому для этого поводу.
В образе Дороги сливаются у Гоголя
все стихии: и земная, и растительная, и водная( в скобках замечу, что стихий по
Гоголю больше, чем четыре - а вернее всего, только одна, в разных проявлениях, не менее важных, чем ее
единство, подтверждающих и утверждающих это единство). Поэтому Днепр у него
похож на степь, а степь и горы могут напоминать море. Но писатель видимо
отдавал предпочтение водной стихии, характер которой ему более интересен и
близок. Вот пример этого сочетания, своеобразной водно-воздушно-земной дороги:
«Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как
сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо,
долины - все как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул
где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и
кустов, как кометы острыми клинами падали на огромную равнину... Он (Хома -
Н.Ч.) опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его,
казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как
горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до
самой глубины моря; по крайней мере он видел ясно, как он отражался в нем...Он
видел, как вместо месяца светило какое-то солнце; он слышал, как голубые
колокольчики, наклоняя свои головки, звенели.»
И много еще где вставлены в ткань
повествования эти зеркально блестящие фрагменты - так писатель готовится
преобразить мир по-своему, но неотступно следуя первоначальному замыслу Творца,
когда все было вместе и друг другу не противоречило, но сочеталось. Мы же следуем Дороге. И вот перед нами -
опять изображение реки, из второго тома «Мертвых душ»: «Река, то верная своим
берегам, давала вместе с ними колена и повороты, то отлучалась прочь, в луга,
чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть,
как огонь перед солнцем, скрыться в роще берез, осин и ольх и выбежать
оттуда в торжестве, в сопровождении мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся
за нею на всяком повороте.» Как видим, писатель никак не захотел оставить излюбленных образов, даже
перед лицем вечного молчания. Здесь все знаки на месте, все расставлены по
местам: и непокорная река, и леса, и мосты с мельницами - все укомпанованы в
один небольшой, но значительный фрагмент, по схеме несомненно родственный
описанию Днепра. Вглядимся пристальнее: «Страшная месть» как бы наследует
«Сорочинской ярмарке»; там, где завершается одна (всеобщим загулом, непонятно
почему вызывающим грусть) - другая (загулом же, свадебным пиршеством)
открывается. Повествование «...Ярмарки» начинается не как-нибудь, а сразу на
мосту над рекой-красавицей. Однако свадьба в начале «...Мести» не служит
началом истории о пане Даниле и жене его Катерине, это как бы торопливый намек
на историю колдуна. Но история колдуна, в свою очередь, не раскрылась бы, не
будь пани Катерины и пана Данилы - а с ними читатель знакомится не где-нибудь,
а в лодке на Днепре, когда едут со свадьбы. И приведенный выше отрывок из
второго тома «Мертвых душ» открывает последующее повествование, служит как бы
проводником к селу Тентенникова, от которого и потянутся, через Чичикова, все
ниточки злополучного позднего писания. Итак, река открывает повесть, она сама -
весть. Из мира горнего в мир дольний. Между ними неизбежна граница и необходима
связь - дабы узрел читатель чудесное преображение персонажей прямо на месте, и
охваченный сим чудом, остановился, как пораженный
Божьим чудом созерцатель.
Роль границы и связи выполняют у
Гоголя мосты и мельницы. По традиции - так как мельницы строились возле рек с
сильным течением и пройти к ним нельзя иначе, как по мосту - два эти элемента
изображаются вместе. Как два лика границы - соединяющий и разделяющий. Мост и
мельница, в контексте Гоголевских творений, имеют еще одно значение, более
конкретное. Хлеб - пища земная, и мельница может назваться храмом хлеба, а мост
- дорогой к храму. Церковь же - мельница хлеба небесного, где душе человеческой
надлежит со смирением проститься с
телом( зерном) и приступить к жизни иной. Поэтому возможно уподобить пустую
мельницу - пустой церкви. Опять же, предки не зря говорили, что в старой
мельнице, где уже не мелют зерна, поселяется нечистая сила. «Молют» - и
«мелют», молоть - и молить: как могут оправдать себя эти детские оговорки!
Галерея мостов не менее обширна,
нежели галерея рек. Пронаблюдаем, как ведет себя мост на страницах Гоголевских
писаний: «Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно
кидали их, разбивая в брызги, обсыпая
пылью и обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами взъехал в
это время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло,
раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками,
мельницы - все опрокинулось вверх ногами, не падая в голубую прекрасную
бездну.» Так гоголевские герои появляются на страницах повести, переезжая мост
из небытия в бытие. Упоминание подобия (земные вещи, отраженные в реке) -
момент чрезвычайной важности. Этим достигается утверждение их присутствия в
мире ином. Словно бы мир горний, мир сугубо невещественный, нечувственный, для
писателя приобретает формы, едва ли не подвластные осязанию и прочим
чувственным человеческим проявлениям. И снова, с редкой настойчивостью,
писатель сравнивает реку на исходе
прекрасного августовского дня с зеркалом, со стеклом, наделяет ее самыми
возвышенными определениями, уместными в акафистах, отчего повесть приобретает
военное звучание, и теряет все досужие лирические лепестки.
Далее - по порядку, мост
замечательный и необычный, прямо противоположный вышеприведенному, но
продолжающий его из горних высей вниз, в преисподнюю: «Глядь, между деревьями
мелькнула и речка, черная, словно
вороненая сталь. Долго стоял он у берега, посматривая на все стороны. На
другом берегу горит огонь и, кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова
отсвечивается в речке... Вот и мостик! Ну, тут одна только чертовская таратайка
разве проедет». Этот мост в преисподнюю ведет - ради изволения оттуда грамотки
( повести или души) и восстановления утраченной в бурях житейских чести. На
мостике этом сосредоточены и чаяния героя, и его намерения, и его решимость -
но и предстоящее испытание. Мост сам вырастает до уровня грамоты, ведя героя из
пропасти погибели и бесчестия к нечаянному спасению - через бесовское наваждение.
И здесь наблюдается перекличка с народными повериями: души неспокойные,
неотпетые и неотмоленные ( «...Куча народа бранилась на берегу с
перевозчиками», «Тарас Бульба»), все погибшие в пути, сосредотачиваются на
перекрестках и у мостов - и надлежит-таки герою добыть пропавшую грамотку ( тут
она едва ли не до уровня молитвы подымается), дабы вернуть себе честь, а душам
- мир. Большое, значит, прошение заключено было в той грамоте, если через нее
столько искушений герой принял.
« Тротуар несся под ним, кареты со
скачущими лошадьми казались недвижимы, мост
растягивался и ломался на своей арке,
дом стоял крышею вниз, будка валилась навстречу, и алебарда часового вместе
с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на
самой реснице его глаз». В сравнении с предыдущим отрывком, вещи сохраняются
неподвижными - за исключение главного действующего лица - моста. Здесь он
растягивается и ломается, что предвещает скорую гибель героя. А если вспомнить,
что отрывок это - из «Невского проспекта», становится понятно, где герой идет
по пути спасения, а где - сгинет лютой смертью. Изображения моста словно бы
сами подсказывают читателю, о чем повесть, как она будет развиваться, чем
завершится. Впрочем, это и свойство всех гоголевских изображений природы, а не
только моста. Описание словно бы вбирает в себя суть повести, становится ее
отражением в самой себе, как в зеркале, как в глазах дорогого человека,
пророчествует и направляет. Сюжетный план идет параллельно образному плану, что
неоднократно подчеркивается частым изображением зеркальной поверхности, где все
вверх дном. Видимое - параллельно ведущему невидимому, как священник - знак
Бога на земле, и родные просторы - отражение Царства Небесного. Такова жесткая
по сути своей концепция Гоголя.
Мост в гоголевских творениях никогда не
персонифицируется, как река. Это образ значительный, но безличный. Это как бы
логическая связь между двумя берегами, двумя противоположными планами творения
- видимым и невидимым, бытием и небытием, формальным и сущим, сюжетным и
образным, связь, сводящая их, волею Бога, в единое и неразделимое целое. Так
проявляет себя гоголевский эпос - во многом за счет умелого использования
деталей пейзажа.
Образ моста в некоторых
произведениях Гоголя расширяется, становится как бы расплывчатым - и вместе с
тем более глубоким. Он восходит к образу переправы. Отчасти это напоминает
древние греческие мифы - но так же и отличается от них. Отличается именно
отношением автора к изображаемому, его непосредственные реакции на происходящее
в тексте, как у человека, увлеченно следящего за фильмом или театральным
действом. Автор чувствует себя по отношению к тексту так же, как
путешественники к реке и переправе через нее. То есть, утверждает своим
действием действие же силы, его ведущей и направляющей. Есть в этом нечто от
византийской идеи христианского государства, где императором - сам Христос. В
доказательство приведу два отрывка: один из «Тараса Бульбы», другой - из
«Шинели». Первый: «Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и через три часа
плавания были уже у берегов острова... Куча народу бранилась на берегу с
перевозчиками. Казаки отправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе
покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели
себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием...» Кони
на пароме - глубокий и древний символ. Казаки расстаются со своими конями при
входе на паром, но не оставляют их на берегу. Так в момент смерти или сильного
потрясения душа и дух, выраженные символически в образе коней, расстаются с
телом - но еще не покидают его. Какое-то время, а по православной традиции,
сорок дней, душа и дух пребывают в местах безвидных и проходят всяческие
испытания. И только по прошествии определенного срока - так сказать, по прибытии
парома, коням и козакам отводится каждому - подобающее место. Вот второй
отрывок: «Он приближался к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видимыми на
другой стороне ее домами, которая глядела совершенною пустынею». Площадь
объясняется здесь как нечто, нарушающее целостность жизненного движения
(улицы). И это нечто, дабы вернуться домой, герою нужно преодолеть. Однако,
если довериться мрачному описанию площади, при переходе через нее ничего
хорошего героя не ожидает. Герой посреди зимней городской пустыни немыслимо
одинок и беззащитен. И грабители, вдруг возникшие как бы из ничего, вполне
могут соответствовать представлению о нечистой силе. Интересно то, что, в
отличие от первого отрывка, роль бессмертного начала в человеке играет не живое
существо и высокий символ, а обыденная вещь - шинель! Параллель с миром
бесплотных сил читается и в «Тарасе Бульбе». Одна немаловажная деталь
подтверждает это: козак гибнет, когда допускает в себя земные чувства - хотя бы
и любовь к женщине. В этом контексте измена Андрия вырастает едва ли не уровня
грехопадения...
|