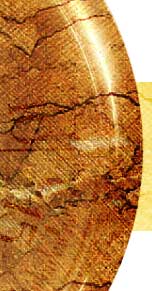ЛЕЙЛА
Нет
светлоглазым длинноглазым счастья, а Лейле счастье дарено;
оно как
чёрный камень.
Кто -
Сам Господь - посуды тонну вымыл бы, а Лейла - может, улыбается, аминь.
Кто -
вкусно так готовит, в полусне, и засыпая возле плиты,
под
головою виноград:
Сам Бог
любовью ранен.
Ей
двадцать лет, и лоно - ворох ржи со спорыньёй, и талия - прикинь.
Всё
лишь игрушки, о чём я написала.
Лейла,
как хочется назвать тебя святой, питомица потомков Углугбека,
с
дешёвым крестиком на шее.
Услышала,
пришла, и в брюках, допустили, как свою.
Но
речь-то не о том. О том, что сон твой - виноград,
Господен
виноград, а сердце бдит, и в снах по ягоде играют светом гроздья,
как
вкусно маслом свежим губы тёмные покрыты,
а кожа
золотится так светло, что перед ней блондинки побледнели,
что
глупый дядька на авто, с членами в голове, с деньгами в голове,
себе не
будет рад.
О мой
возлюбленный, елень в горах памирских,
сын
Авиценны и Гурджиева, рахим!
Садык
рахим, я песнь тебе пою, рахим -
а он
стремится к яблокам гранатовым, к цветам седого хлопка,
он
Лейлу жаждет видеть, мудрую речную тень, идущую в неведомое море -
Богом
ход её храним.
Что
есть в словах, географических названьях, исторических романах -
винная
чуть кисленькая пробка.
Вот
Ангелов корить мне было б стыдно, а корила.
Лейла -
ангел, с ней - её рахим.
О
ангелы начал и духи календарные, подвластные началам,
не
скупитесь прославить Лейлу!
Серой
коре парков и серым веществам
не
уберечь и не вместить красы стыдливой Лейлы,
её
святого золота на красном, и поступь с луночкой, и угол лицевой.
Когда к
полуночи устанет Лейла печь волшебные свои лепёшки,
зовя рахима и сестру Зюлейку,
светлеет
небо над Памиром,
а в
старой Бухаре чуть стонет камень торцевой.
- О мой
возлюбленный, ты ветвь моя, уж ты мне не нужна.
Тебя я
потоптала у плиты,
растёрла
этой обувью, украшенной курящим опий турком
и
проданной колящим опий китайцем,
а всё,
садык рахим, в глазах моих чуть пыльной розой мартовской, всё ты.
Ах,
Соня, Сонечка моя, мне сменщица, приди,
примчись
ты из Твери своей весенним рыжим зайцем.
Танцует
Лейла, лал её печален, но греет обезлюдевшее сердце,
а тело
небольшое так и ходит
меж яств и вод, меж складок и зеркал, танцует Лейла.
Золотая
Лейла. И шах молчит.
- О
грех мне, мой рахим, я знаю, что чужое трогать горько,
но вот
шайтан весёлый водит.
Как
больно по рукам, хоть не видать, кто бьёт - ты асассин, сунит или шиит...
Моя
доверчивая мягкая рука касается чужого белья и платья, как стыдно мне!
Зачем
мне эта рыба!
О не
судите Ангелов, что Лейлу они не защитили.
Как ей
плясать и петь - и пить потом вестибо?
Как
Лейле вдохновить стихи о себе?
Не муза
Лейла, битая кнутом, но муза Лейлу любит;
стихи
текут, играет лал, Ширин вошла к Фархаду.
Но что
экзотика поэту. Как досадно,
что
тёмные глаза, они глаза любви, что детские ладошки, как у меня,
их мыло
с розой губит.
Нет, не
затем, не потому, не ради - а ради Бухары и красоты Хорезма,
ради
Христова сада,
постелите
постель Лейле. Усыпьте розами, турецкой ткани принесите.
Где
ткани Бухары, скорей...
Иди же,
Беатриче, к Бенедикту, иди Ширин к Фархаду...
Где,
Лейла, твой Меджнун...
...
|