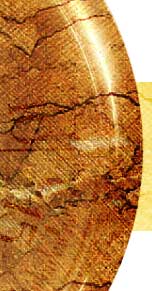ЖУЧКА
Рассказ
Стыдно
выпадать в осадок. Как ни встретится какая история, пригодная для записи – так
про умирающую лебедь. Про девушку, женщину – которая ни при чём, и сама
виновата. Жертвой обстоятельств её не назовёшь – она не страдает почти. Смотрит
только большими глазами, как животное, и не говорит. А если говорит – лучше бы
не говорила. Смешно, ужасно и смешно.
Смешно
представить, чтобы Жукова болела или с ней что-то другое серьёзное происходило.
Стоит, бывало, на литургии с платком возле носа. Ангелина Кречетова, это вдохновитель
и идеолог приходской, библиотекарь-автор-книг-газетчица,
говорит ей. По-матерински, тепло и внушительно, опекая:
- Ты
чего с платком? Херувимскую ведь поют, надо благоговейно слушать.
Конечно,
с платком у носа – это нарушение. В храме всё должно быть соборно, и благодать
на соборных почиет, как отец Родион говорить любит, на причастных к церковному
сознанию – или как ещё он выразился. А вот Жукова благодать разоряет. Небрежно
к полученным во храме дарам относится, и за это с неё несомненно взыщется на
Страшном Суде, в который сама Жукова уж точно верит. Поведение у неё вовсе не
христианское, не приходское, хоть и вид смиренный. Вот такие с виду смиренные –
и есть настоящие гордецы. Много о себе Жукова вообразила. Спит после литургии
(сама говорила), когда не причащается, перед литургией – кофе пьёт… Бывает, что
и с хлебом-сыром. Словом, неблагочестивое поведение. А что с ней делать? Потому
и к Таинства допускают: авось образумится. А она всё своё бормочет:
заступи-укрой.
То
смешно и стыдно, что при воспоминании об этой Марии Жуковой привкус вины
появляется. Она – укор и смех одновременно. Стыдобища всему приходу. А куда
Ангелине Кречетовой деваться? У неё послушание старосты, значит – всем должна
быть мама, и Жуковой тоже. Ну как Жукова этого - про маму – не понимает?
Ангелине обидно; значит, послушание плохо исполняет. Ей тридцать семь, лицом и
станом вышла красавица. Муж моложе лет на двенадцать, и рожать надо. Полная
женская и приходская жизнь. Это ли плохо и обвинения достойно? На Жукову посмотришь
– решишь, что плохо.
Нет, в
послушании Жукова неукорна - старательная, слова не скажет. Надо – значит,
подметём-уберём-помоем; чисто и молча. Но как-то не так она всё делает, Жукова.
Можно и погрязнее убираться, но по-человечески, что ли.
Посмотришь
на Жукову, как она живёт, там и решишь, что надо вот как она – с цветами
говорить, искать в снах Божьи буквы (это её, Жуковой, слова), Библию читать и
всё там такое… Добротолюбие, «Основы искусства святости»… И заражать своей расслабленностью
окружающих: посидеть там, подумать, чаю попить. Один отец Илья Звонарёв вздыхает,
да Жукову по шапочке гладит.
-
Тихоня ты, Маша, ох тихоня. Блаженная, наверно. Да что ж так-то…
Никто
не поверит никогда, что в Жуковой нет хитрости. Потому на неё даже продавщицы в
магазине рявкают, как будто она их обижает. Рассказывала. Нужно за покупку –
сто пятьдесят. Двадцати не хватает. Жукова сотку прячет, меняет пятисотенную. Продавщица, не то от
зимней усталости, не то от соблазнительного Жукова вида (не такая как все эта
баба, ох не такая) – пятисотенную взяла и чек выбивает. Как будто денег
хватило. Жукова стоит и ждёт сдачу. Молчит. Или сказала: четыреста восемьдесят
сдачи давайте – но так тихо, что уставшая продавщица не услышала. Не дело так,
конечно - шептать; надо по-человечески сказать, ибо все люди и уставшая
продавщица тоже человек, и ей надо сказать внятно, а не как Жукова, шёпотом.
Следующий в очереди, говорливый мужик, заметив манёвр продавщицы, нечаянно помог:
- Ну,
дайте ей сдачу, не мучайтесь.
Жукова
тут и скажи:
- Да,
мучается.
- Бог любит,
потому и мучаюсь, - ответила продавщица. Обиделась, что постыдно осеклась, и
перед кем – перед этой. Городские сумасшедшие и то понятней, они про своё,
человеческое, не как эта – глазами впиться и молчать.
Вот так
всегда она, Жукова. Где ни появится – там кто-то в лужу садится. Она-то сама
отродясь в луже, да в такой… Лучше и не показывать. Удивительно, как она этой
лужи не чувствует. Тупая, наверно.
- Ты
там как-нибудь, где-нибудь. А этого-того – не надо.
Жукова
мама сцепила руки на животе и поиграла пальцами. Завязала бантиком старые
губки, на редкость подвижные и выразительные. У пожилых обычно рты пропадают.
Кажется, что и возраст человека по очерку рта определить можно. А тут –
довольно молодой рот, без помады. Но жизнью Жукова мама, Ольга Алексеевна,
сильно прибита, и потому чаду помочь - и не может, и не хочет. Даже так: и
могла бы – не помогла. Устала от житейских боёв.
И ведь
эта Жукова мама дитя своё нерадивое и вредное всё детство по храмам и
монастырям возила; библии всей семье покупала и плакала слезами, разъедающими
щёки, от немира в небольшой бабьем семействе, из которого мужики как из бани
скорей выскакивают. Да что мужики – Жукова-дочка значения этого слова толком не
знает, она только в книгах про то, что муж бывает, читала.
Жукова-мама
с собой когда-то насмерть боролась, возила тележку с едой, чтобы «томить
томящего мя», отучить себя от чревоугодия. И как сядет есть – хоть в парке на
лавочке – так и вспомнит свою меньшую, окаянную и глупую – то есть, собственно
Жукову. Страдала очень. А потом прибило обстоятельствами, и смирилась. Со всеми
унижениями и огромным количеством еды в двух холодильниках. Но это матери не в
укор, а военное детство. Жукова понимает, что надо маме, и всегда рыбу берёт –
разную; и консервы, и копчёную, и мороженную – когда к матери едет. А потом,
когда мать в покушении на её жизнь Жукову заподозрила и обвинила, еду покупать
перестала и вообще перестала приезжать и звонить. Вот такая она,
индивидуалистка несоборная. Нет, чтобы любовью и благодатью маму лечить. А мать
будто и рада, что Жуковой нет – злая, и быстро огорчается. Да что ж за ад
такой. У Жуковой каждый раз после посещения мамы – сердцебиение, и уже
лекарства прописали. Но разве ж это посмешище может болеть? Она железная, эта
Жукова, ей ничего не сделается.
А
Жукова – своё:
Боже
мой, прекрасный Господи,
Боже –
радосте моя,
Ты в
напастех избавление,
Обретение
рая.
Получается
– во всём мама виновата. Другие, конечно, считают, что Жукова. Таким полегче –
хоть не они виноваты, а главная их жизни злодейка. Обидка у Жуковой на церковь
и на маму, потому что сама маленькая и ничтожная. А ещё – в жизни устраиваться
умеет. Удивительно, что ещё особняк себе не купила.
Словом,
подали на Жукову в суд. Или сказали, что подадут. Неизвестно, будет суд или нет
– скорее нет, или что там, и без Жуковой по любви договорятся. Но угрожающий
факт был Жуковой в ухо сказан. И теперь ходит она как тень, медленно вытягивая
руки, гладя ветви деревьев, и говорит:
-
Липушка-голубушка, защити Машу. Дай ей окошко, светлое окошко. Молитвами
Богородицы. Ты, липушка моя – богородичное деревце, милое. Господи Христе,
Спасителю Разум – научи, помоги, заступи…
Священнику
и не говорит, что там у неё. Боится, хочет сказать, но не говорит. Отцу Родиону
как-то высказалась, а тот:
- Что
ты мне про свои беды… Ты на исповеди.
Ну,
думает Жукова, пойду записаться на официальный приём, просить благословение на
обращение к юристу. У секретаря телефон есть - отца Родиона. Однако
родственники всё же родственники, а там всей истории довольно серьёзное
изменение вышло, бабий батальон зашевелился, но про Жукову так и не вспомнили.
Так и живёт – как может.
Хуже
всего то, что неясно, что там у Жуковой этой внутри. А вдруг – злобы там ни на
грамм, а такие ей истязания… Так она, что – святая? А как же все остальные? Была бы как человек – а то
молчит, не говорит. А не говорит – значит, не ругается. Если не ругается – как
её понять… И всем всегда подарки раздаёт. Хоть картиночку, но подсунет: и к
месту, и не к месту.
Знакомство
с Жуковой для прихода так началось. Фотиния одна подошла и сняла с Жуковой головы
шапочку. Вязаную, беленькую. В лавре эту шапочку Жукова купила, у какой-то
старушки. За тридцать рублей.
- Что
это? Как кукла. Все в платках, а она в шапочке.
И
сказала-то беззлобно. Фотинии только интересным показалось, что это – в вязаной
кофточке, и шапочка вроде из того же материала. А вышло – что обидела она
Жукову. Та обернулась, посмотрела на Фотинию огромными своими прозрачными глазищами
непонятного цвета и… молчит. Смотрит, как будто её ударили, больно ударили, и
кровушка из носа хлещет. Волчонком смотрит. Не дело. Бедная Фотиния и
стушевалась.
Дело-то
в том было, что полхрама – в шапочках. Но Жуковой – нельзя.
А потом
- пошло и поехало. Ходит. На все службы, и в субботу, и в воскресенье, и все
праздники. Исповедуется, аккуратно, у одного батюшки. За неимением (заболел, например)
- у другого. По священникам, как по лесенке, не бегает. Полы мыла, иконы
протирала - всё делала, что попросят. Но толку от неё всё равно никакого - не
подключается в приход как-то. А иногда - самое страшное - вдруг заговорит. И
тогда...
Говорит
Жукова очень скоро, южной какой-то скороговоркой, как заклинает. Руки
вскидывает, глазами вертит... Как в телевизоре. Ей один молодой человек так и
сказал: что ты - как в телевизоре. Но Жукова-то от этого замечания говорить
по-другому не станет. И говорит-то такие вещи, о которых молчать надо.
Потом
полы мыть перестала. За ящик её и не приглашали (там посолиднее нужны). Так и осталась
- в очереди. К Богу. А ей вроде это и не оскорбительно, хотя видно, что
переживает. А потом, как выяснилось, от этих её коротких разговоров кое у кого
из прихожан ожоги остались. Кому-то что-то когда-то сказала, какую-то правду в
глаза. И ведь не поняла, что обидела, даже и не заметила. Так что теперь с ней
некоторые и не здороваются. С кошкой разговаривают, хоть настоятель и не
одобряет такого сюсюкания. А с Жуковой - нет. Она хуже, а чем? Говорит, потому
что.
Если ей
что нравится, Жуковой, она так и бросается. Приехал один батюшка известный,
рассказывал про детство военное в Москве. Так никто и не понял, как получилось
- едва закончил рассказывать, Жукова тут как тут, набросилась на него и по
плечику гладит.
- Как я
рада вас видеть, рада видеть...
Кто её
пустил? Как она к батюшке проникла?
Потом
услышали - знакомый этого батюшки заболел, тоже священник. В возрасте. Страшно
заболел. То-то Жукова вокруг приезжего крыльями махала.
Словом,
не человек она, Жукова, и к порядочным прихожанам никакого отношения не имеет.
А за это надо отвечать - потерпи и послушай, что умные люди скажут. Раздражаешь
ты всех потому что. Навязчива одним своим видом.
Однако
какое-то поделье у Жуковой было, им на жизнь она себе зарабатывала. Руки у неё,
правда, быстрые. Не всегда, конечно - и поболеет, и поволнуется. Но что-то она
руками умеет, и это что-то - хорошо оплачивается. Так что съёмное жилище она
себе позволить может. На еду-одежду сколько-то уходит, но Жукова, вроде,
неприхотливая.
Но -
как что, Жукова - своё:
-
Господи, Богородицею Пресветлою - заступи-помоги-укрой, и окошко мне устрой.
Небо-небушко, дай мне Божьего хлебушка, и спасения души в голубой своей тиши.
Как
место для жизни появилось, так Жукова попыталась к себе кого-то взять на
пожить. Но оказалось, что характер у это блаженной невыносимый. Или наоборот -
такой лаской она своих постоялиц окружала, что те махровым цветом распускались,
и уже чувствовали себя как дома. Это бы ничего, но Жукова - вечно младшая. Её
поучали. Из лучших побуждений, потому что очень уж непривычная, непонятная, что
ли. Оказывается - поучать Жукову нельзя. И она, тихоня эта, дрожащими губами,
со свистом, как мокрый воробей, возьми да и скажи:
-
Пожалуйста, собирайте вещи!
И это
девам приходским, отмеченным особенной милостью настоятеля, и просто скромным
православным, попавшим в ситуации. Своим, то есть.
Со
стороны хозяев особенных претензий к Жуковой не было. Опрятная, хотя и странная
на вид. Платила аккуратно, в отношении коммунальных немного нервная, и по этому
поводу звонить не стеснялась. Только говорит - как будто через силу, будто
неловко ей обращаться по поводу оплаты.
Долго
ли, коротко ли - появилась у Жуковой Варвара. Эта - сильно болящая и как Жукова
- бездомная. Только пенсия у неё, а жить по месту прописки не может. Отчего-то
эта Варвара Жуковой очень понравилась. Болящая - онкологическая. Когда-то была
даже красивая. Теперь - серая, лицом и волосами. Женщина из пепла. Хотя какая
там женщина - Варвара эта и замужем-то не была. Лежит у Жуковой на кухонном
диванчике. А та бульон куриный варит, с розмарином и укропом. В бульон -
половину яичка, варёного, и немного сухариков, подкопчёных, из пакета. Варвара
смотрит на то, как Жукова бульон готовит, почти улыбается.
- Тут
бы не сухарики, а пирожок с курочкой, из бульона. Слоёный.
Жукова
кивает и улыбается.
-
Хорошо бы!
Жукова
тарелку на стол поставит, Варвара к столу подберётся, помолятся обе, и кушают.
Потом Варвара рассказывать начинает. Вот за эти-то рассказы Жукова любит её
безумно. И за то, что Варвара её, Жукову, слушает.
- Снег
уже в кулачок сжался, Варя. Скользко. Самый холод. Самый свет. Соль постовая
уже выступила.
- Как
это ты про кулачок, Маша! И ведь верно! А сколько времени? Какое солнце! Дойдём
до парка?
Одевшись
во всеми церемониями, идут в парк. Жукова, сама ветром носимая, Варю, а та
ростом повыше, под руку ведёт. Варвара рассказывает.
-
...шпилька у него, шпилькой и помазывал. Рука-то сухенькая, мощи, можно
сказать.
-
Шпилькой! - Изумляется Жукова, - как же это - шпилькой!
-
Чёрная, рифлёная по бокам, тонкая, буквой эль. Как у моей бабушки была, в
сороковые.
-
Шпилькой! А смотри - ты рассказываешь, а вон ветки - похоже?
-
Похоже, похоже.
Ходят
весьма долго, у обеих с носа каплет. Вернутся - а в домашнем тепле настигнет
внезапная слабость. И начинается долгое раздевание. Жукова сапоги снимет - и к
плите идёт:
- Варя,
чайник?
А та,
разматывая длинный шарф: хорошо бы!
Работала
Жукова по ночам, как мышь. Что делала, до сих пор никто не знает, но делала, и
хорошо. Часть работы осилит - идёт укладывать Варвару спать. Сначала вместе
помолятся, Евангелие почитают, хоть одно зачало.
- Я,
Варя, давно ни пророков, ни Царств не читала, - вздыхает Жукова.
- Я
тебе почитаю, хочешь?
-
Читай!
И вот,
шустрит Жукова у своего стола, а Варвара ей вслух главу читает. Про царя
Давида.
-
Чермен волосом - это рыжий?
-
Наверно, рыжий.
Заснёт
Варвара - Жукова свет погасит, поставит поближе свою светодиодную лампу, и
дальше шустрит. Закончит вторую часть, выйдет на кухню в ночное окно
посмотреть. А там - огоньки. Редкие, милые огоньки. И луна ходит за облаками,
на Жукову смотрит одним глазом. Красивая луна. И облака красивые, органза.
Небесные занавески.
-
Пречистая Господня Мать! Ужели мне вовсе своих стеночек не видать, а только
наемные? Не хочу. Но уж как получится.
Вздохнёт,
и - дальше, последнюю часть доделывать. После работы ещё помолится, положит
поклон, нехотя, но положит. А иногда - и весело. Спрячется в душ, поплещется, и
- в койку. Просыпалась Жукова всегда первой.
Так бы
и шло, но у Варвары вдруг обострение началось. Внезапно, так, что скорую
пришлось вызывать, хорошо - не ночью, и везти Варвару в больницу. В больницу
взяли, место определили, лечение назначили. А Варваре всё хуже. Пришлось
Жуковой искать знакомых Варвары. Долго искать не пришлось. Варвара сразу, ещё
до больницы, дала Жуковой телефон своего злодея. То есть, человека одного,
из-за которого Варвара много страдала и потом считала, что из-за него заболела.
От страданий заболела, а он, этот человек - причина. Жуковой звонить не
хочется. Она и с Варварой-то кое-как разговаривала. А тут - мужчина. С
мужчинами Жукова вовсе говорить не умеет. Обвиняет себя.
-
Ленивая стала, очень ленивая. Руку поднять лень. Впадаю во что-то. А во что?
Однако
знакомому Варвары позвонила. А тот возьми да и отзовись. Не ожидала Жукова.
Думала: так себе, скажет: как жалко. Ну, самое большое - навестит разок. А он:
что нужно? Где лежит? Отведите меня к ней.
Встретились
у входа в больницу. Немолодой, высокий - Жукова на него как в небо смотрит.
Властный, сразу видно. Достойный, даже степенный. Однако в глазах что-то было,
как рябь какая ночная по зимнему морю. Жукова на море зимой не была, и вообще
на море не была, а вот фото из мировой сетки помнит: зимнее море под луной. Не
блестит, а мерцает, чуточками, но они, чуточки эти, всё на свете
перевешивают... Золото такое водяное. Грусть, скорбь в глазах - пойди пойми с
первого раза. Жукова насторожилась: вот ещё хлопоты, с мужчиной разговаривать.
Не умею, думает, да и зачем мне. А его Михаилом звали.
- Вот
беда-то, - думает Жукова, а сама смотрит: есть ли кольцо на пальце. Есть.
Женат. Вот пошлость-то: кольцо высматривать. Кто Жуковой сказал, что кольцо это
- показатель, а не деталька из бульварных журналов? Может быть, Михаил
действительно благородный человек. - Беда какая. Угораздило Вареньку.
Требовательный очень - сразу видно.
И
точно. Едва вошли: что за больница такая, не могли лучше найти, да вообще о
людях не заботятся, а всё вы со своими храмами. Жукова молчит, но внутри едва
не спеклась. Что-то дальше будет.
Но едва
в палату вошли - он как растаял: Варенька! И та в ответ: Миша!
|