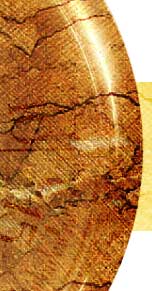Кофе конечно был никакой не кофе, но при заборе ложной приятно раздражающе хрустел. Алекс чувствовал, что сейчас Макс скажет что-то, на что придётся серьёзно отвечать и не очень хотел этого разговора. Хоть бы Зина пришла. Но она не выходила из комнаты, а только подрагивал телефонный провод, уходящий сразу в щель под её дверью. Задания проверяет, как же. Неужели неприятного разговора не избежать? Не анекдоты же Макс решил рассказывать с таким лицом.
- Может быть, я покажу тебе один роман. Глупое подражательное фэнтези, но мне нравится его писать. Однако сейчас я не о романе. У меня, знаешь, много бумаги собралось, и я не знаю, что с ней делать, а это угнетает. Это нервирует, не даёт спать, но очень и очень важно. Дневник: три записных книжки, год жизни одной волосатой герлы - Алины. Она умерла давно уже, лет пять назад. Что умерла - узнал примерно тогда же, почти случайно; мне позвонил следователь. Хоронило её государство - а ты знаешь, как хоронит государство? О, я тебе расскажу. Надо описать, обязательно надо описать. Это круче всякой фантастики, это шедевр мироздания - как хоронит таких вот неприкаянных наше государство. Я был в морге. Нас трое было, но Зинде не сказал; зачем? Она ведь всё равно пионерка. Так вот, родственникам известно не было, что с Алиной и как. Они охотились за её квартирой, а она им квартиру не отдала. И потому за ней никто из родственников в морг не приехал. А я, вернее - мы, Гена этот - Кеша, и ещё один чувак, мы - были. И её книжки отдали мне. Она пролежала летом у себя на диване, ослабевшая, сколько-то, пока не умерла. И на полу возле дивана, как мне сказал санитар - такой браток - были эти книжки. Их взял тот самый чувак, что с нами был, и мне отдал.
Макс перевёл дух; ему становилось всё хуже, но кажется критическую точку он уже прошёл. Алексу тоже было мрачно, но он впервые видел такого Макса, настоящего Зигфрида. И понял, почему его прозвали именно Зигфридом.
- Если ты думаешь, что мне радостно быть обладателем этого сокровища, то обломись - нет, не радостно. Однако я понимаю, что эта герла сумела описать такое и так, что все наши бестолковые как подсолнечные семечки смерти (Децилку помнишь? После скандала с мужиком, и тоже на диване) находятся у ней в карманах, то есть, в этой книжке. Это надо обработать и выдать на гора. А потом переправить на запад. Они побледнеют там, они сюда за кайфом едут.
Алекса неприятно кольнуло: как же, много ты, рыжий, видел иностранцев. Но тут же вспомнил самодовольную улыбку Гарри, получающего из рук цыганки пластиковый пакетик с липким маковым сырьём - граммом - и Максу не возразил. Гарри располагает средствами, на которые может раскумариться сам и раскумарить других. Пусть в кругу торчков считается западло - раскумаривать других и покупать граммы (граммы надо вырубать), но чтобы тебе было хорошо, когда других ломает... Кеша - на что дрянь, и тот подсовывал Ксане деньги и шприцы. Чтобы хоть раскумарилась. Чтобы дошла до вечера. Но куда это его, Алекса, понесло - в этот латаный, пошлый торчковый героизм, в эту новую норму мирового поведения? Как он не любил эту торчковую величественность нового образца, как не любил! Но приходилось иметь дело и вмазываться, рискуя получить гипертонический криз, именно с ними, потому что именно они - семьдесят второго - семьдесят четвёртого года рождения - теперь торговали кайфом.
- А не вышло у них Тарантины, - осклабился Макс, - не вышло. Ага?
Алекс в знак согласия сделал глоток ещё не остывшего кофе.
- Так что там за фэнтези?
- Я покажу тебе, - вдруг довольно весело ответил Зигфрид. - Но сначала хочу, чтобы ты почитал из этих книжек, Алины.
Добавил, улыбнувшись уже по-человечески.
- Я любил её, Алекс, такой я пошлый. А она завещание на тетрадном листе написала, отписала квартиру своему соседу, церковному, как оказалось, старосте. Так что родичи её ничего не взяли. А старосту этого я видел и говорил с ним. Он с нами в морге был, тот самый. Потом расскажу.
- Бобы! Опять бобы. Водку, понятно, всю выпили.
Зина, с синим телефоном, появилась в проёме кухни и отчего-то рассмеялась. Алекс уловил, что она рада и очень рада его видеть, и на Макса не сердится. Но что-то произошло. Что-то очень существенное произошло за время, пока говорила по телефону. Или ему показалось? Что за круговращение такое?
Да сговорились они, что ли.
ИЗ ДНЕВНИКА ЕЛЕНЫ ПЕТРОВОЙ - АЛИНЫ
"Мне очень нравится бумага из школьных альбомов для рисования. Она толстая и вовсе не белая. Именно такая нужна для японской картинки. Но я не художник. Не смогу нарисовать японскую картинку. Это не значит, что не буду пробовать рисовать японскую картинку. Ужасно много пробовала рисовать японских картинок, и мне сказали, один художник, что у меня интенция. Не стала ходить в его мастерскую - просто потому что женщины там на меня так странно смотрели, будто я его любовница. Даже альбомов с японской графикой толком не видела, но хочу рисовать японскую картинку, и порой что-то похожее получается. Однажды Упырь принёс альбом Бердслея в мягкой желтоватой обложке. Чужой, его, Упыря, альбом - и потому запоминала линии, как запоминают стихи, когда смотрела. Потом придумала спицу, тушь и эти листы для рисования. Мне понравилось. И то, что флаконы туши такие толстые, и что тушь так хорошо схватывается и блестит. А если в неё добавить сахар, рисунок станет намного прочнее. Слышала, что акварельные рисунки покрывали смесью молока и сахара. А пастели - лаком для волос. Рисую спицей. Обмакиваю в тушь, и рисую по листку из альбома. Получается. Порой - совсем как на японской картинке. А что такое японская картинка - это признание своей полной беспомощности перед ходом всех вещей, и социумом - как машиной, в которую входят несколько общих для всех вещей, и эта машина тебя давит. Она не специально едет на тебя, она вообще для продолжения жизни и радости сделана. Но бывает, что кто-то попадает в колёса. Выбраться почти невозможно.
Но мне-то что в этом мире? Мир, в котором радостно трахаться, предполагает, что в нём так же радостно бить, кого трахаешь. Если трахаешь одного, то бьёшь другого, а чаще всего того, кого трахаешь. Я очень виновата, что поверила, что у хиппи отношения строятся иначе. То же самое. Трахать и бить, бить и трахать; они даже в еде не очень разбираются, особенно те, кто моложе; и делают вид, что разбирается. В клешах родились. Однако снова глупости пишу. Вот эти два момента - бить и трахать (пишу эти слова с лёгким привкусом садомазохизма, хотя и это глупость) эти два слова определяют все отношения в мире людей. Да ни за что не поверю, что если кого-то трахаешь, то его же бить не будешь. Нет. Особенно у нас. В этой неподкупной и величественной земле вечного пьяного сна. Но не мне такие вещи говорить. Знаю тех, кто говорит такие вещи. Пусть говорит. Моя вина - что выбрала путь, что хотела быть хиппи. Стала хиппи, и ненавижу хиппи. Хотя и это всё неправда - что стала хиппи и что ненавижу хиппи. Но рисунок моей жизни вполне соответствует той легенде, которую когда-то придумала. И теперь мне важно, как важно художнику выдержать характерную для японской картинки линию - выдержать завершение своей жизни. Не рухнуть в обновление бытия. Оно для меня не оправдано ни детьми, ни любовью к кому-то. Бог видит, что я бесполезна и больна. Он милосерднее человека. Но я жестока, как все люди и именно поэтому прошу - не смерти, нет. Только удачного последнего росчерка. Не сорваться, не завязать ненужных контактов, не унизиться, как много раз было. Потому что невозможно, невозможно, невозможно всё это, не хочу".
- Руслан. Руслан звонил, из Христиании, представляешь?
Фраза была обращена к Максу, но впечатления особенного не произвела. Зато Алекс побелел, и даже сам это почувствовал. Звонил Руслан Зарайский, а это было действительно плохо. После бодрой и деловитой выпивки с Максом оставалось ещё много сил. Хотелось либо разбить все окна в этой двушке, либо побить Зинду.
Руслан Зарайский был красавец, музыкант, автор концептуальной идеи одного музыкального сибирского проекта и знатное трепло. Но всё это мелочи, по сравнению с тем, что Алекс его отчего-то сильно не любил и порой не мог объяснить, почему.
|