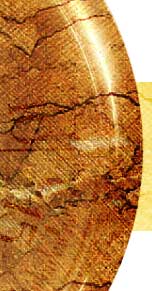Деревня. Как всё было.
Финал первой части.
9
- Безблагодатно? Скажи ещё: неблагочестиво. Личности с большим негативным опытом, на которых ориентироваться нельзя? Ну, а ты прибавь ещё православнутых садистов, о которых мой однокашник любит рассказывать. И ведь находит! То собаку на рождество палками на церковном дворе забили, чтобы в храм не лезла. То дом отняли у детдома, а детей кашей отравили. И во всём православные виноваты, потому что злы и ненормальны.
Красивый молодой священник в два приёма, но скоро и ловко, вынул ведро из колодца. Колодец ютился под горкой, у подошвы, так что тропинка, считавшаяся одной из улиц Долгой деревни, шла почти над головой тех, кто стоял у колодца.
- По небу Савкин идёт, - пошутил священник, указав на хмурого с утра мужичка, - по небу. Он конечно злой, но всё же по небу ходит - потому что на зеле живёт, а мы - в проводах. Если бы не тётка Анна, я бы сюда, три часа от столицы, не поехал бы. Да и из-за неё - не поехал бы. А поехал по вдохновению свыше, и никак иначе, потому что она меня своей молитвой заарканила, дурного барана, и вот теперь помогаю ей. Там ещё часть поля свекольного убрать надо, потому и тебя с собой утащил. Иначе председатель тётке Анне сахару и муки не даст.
Собеседник священника - это был Алекс - взял второе ведро, и вместе поднялись на гору. Священником был Андрей, тот самый, что получил в лесу крещение дымом. Теперь он был протоиереем, только-только хиротония совершилась, и был этим несказанно доволен. Алекса он не видел лет шесть. Макс ещё не вернулся со свекольного поля, ждали его только после захода солнца: работы было много.
- Держи-держи калитку!
Высокая плотная коза с мглисто-серой курчавой шёрсткой и чёрной полосой на спине, со светлым брюшком, кокетливо наклонив голову, шла прямо на людей.
- Ух, Дочка! - ухнул отец Ефрем. Коза конечно не испугалась, но - вдруг прянула в сторону. Алекс встал ровно в проёме калитки.
- Гулять любит. У неё подруга - Ветка, вон в доме напротив, у Параскевы. Дочка к ней хочет. И что взбрело тётке этот дом купить? Что она здесь зимою делает, чем топить будет? Какие у нас с матушкой деньги? Но мне понравилось. Видишь - приехал, и тебя привёз.
- Нехристя, - подколол Алекс.
- Ану, нет их, нехристей, - чуть поморщился отец Ефрем и запер калитку. - Мы же лет семь как открылись, вся эта наша церковно-возрожденческая контора. Полагаю, если бы мой Владыка такие слова из уст моих услышал, не осудил бы. Потому что все как кутята, вслепую, абы что, но делать. Кто зрячий, то уж верно молчит, потому что под суд попасть страшнее. А суд в том, что даже если и всё происходящее теперь, всякими красивыми надеждами исполненное, не по Богу с точки зрения Оптинских старцев, то явно по Богу с точки зрения тех, кто вполне познал, что такое город без церкви и как мучительно, когда служить нельзя. Тут даже что-то дворовое есть. Внутренние разлады перед войной с чужим двором обычно забываются. Но не факт, что лет через тридцать плодов кислых не будет. Это мне один старец говорил.
Алекса серьёзность новоиспечённого протоиерея забавляла, но слушать было утомительно: зануден отец Ефрем. Приятный человек. Опять же, отличный был басист.
- Представляешь себе хоть один большой роман Достоевского без старца? Хоть картонного, хоть на портрете. А сейчас - пожалуйста, и со старцами напиши - всё равно как без старца. В этом разница. То постройки на руинах говорили. Или как у вас там: постмодернизм. А теперь говорит пустота, и это намного интереснее и страшнее. Зачем пустоте строения и люди? Низачем. Тем более - ценности, религия какая-то. Пустоте нужна выгода - то есть, ничего кроме выгоды. Вот это сплавленное воедино есть-нет, без оттенков, как было: нет, потому что в наличии и - в наличии, потому что утрачено. Пустота - как женщина, самая обычная женщина. Красива тем, что у неё три-четыре вещи есть, а больше от неё не надо. Но так же нельзя. А когда человек пустотой изъеден до того, что в нём нечто просвечивать начинает - ты не плюйся только, потому что я об Образе Божием говорю - это чудо. А у чудес с церковью всегда были сложные отношения. Порой время выручало, порой и Сам вмешивался. Но ты только подумай, ведь чудо же – как человека убить можно, кислотою труп залить, ничего не останется, и костей. А тут – вдруг скелет танцевать начинает, как Царь Давид, да такой страшный. Вот и начинается пас. Как это всё принять? Нас, безалаберных, тупых и легкомысленных? Никак. Нас надо поучать и - строем ходить. Посты там, поклоны, чтобы Бога знали. А какое тут - Бога знали, когда Он - изнутри, потому что не для того Он, чтобы человека дьяволу отдать. Об этом забывается. Потому - и никакого православия, а церковная контора. Офис, отношения. До чего дойдёт, не знаю. Но вот мои сокурсники - все озарены надеждой, что всё получится; они как апостолы - летают даже, и не смейся.
Алекс, правда, улыбался. Ему нравилось слушать отца Ефрема, хотя он не понимал православия - зачем столько сложностей?
- Ну, а что вы с буддизмом сделаете? Вот ваш дьякон какую книгу написал: «Сатанизм для интеллигенции».
- Он может, - кивнул отец Ефрем. - А что - с буддизмом? Мы-то что с ним можем сделать? Мне лично он не враг, потому что меня пока буддисты под страхом смерти веру оставить не заставляют. Вот когда это будет, тогда – другое дело.
- А кришнаиты? На днях пол-Арбата заняли.
- Ты ещё Юсмалос вспомни. Сему надлежит быть - оно и есть. Война же. Я вот не уверен, что с ума не сойду на религиозной почве. Помню, книгами подторговывал. Вместе с девчонкой поставили. Ей лет семнадцать. Она в Аум-Синрикё верила. Рассказывает про то, что там, а лицо сияет, глаза светятся. "Господи!" - взмолился я тогда - "Бесов изгонять не умею, я о них вообще ничего не знаю. Но вот эта душа-кожа, она что - зря? Она что - для Аум-Синрикё? Откуда ей - Христос, когда кроме журналов и еды - ничего. Спаси её. Она же вон, благодати жаждет". И уверен, что она спаслась. Было в ней что-то... И Татьяной звали. И "Дип Папл" любила. Не, благодать - у неё своя жизнь. Я люблю благодать.
Шкодливая коза Ветка, перемахнув через забор, синий, недавно поновленный бывшими хозяевами дома, забор, сделав отчаянный зигзаг, приземлилась шагах в пяти от отца Ефрема. Коза Дочка, обрадовано вякнув, поспешила к Ветке – мол, гулять всё равно пойдём. Но тут, буквально под ноги Дочке, кинулся петух, которого Анна с отчаяния прозвала Комиссаром. Житья от него не было не только дворовой живности, но и окрестным котам, хотя петька особенной величиной не отличался. Комиссар, смекнув своим петушиным умом, что Дочка собралась на гулянку, решил это дело предотвратить, и потому молча, как полагается герою, грудью в оливковых перьях преградил ей дорогу. Дочка на миг оторопела, а потом, возмущённо шевельнув ушами, встала на задние ноги – на пуанты. Передние ноги, копытами несколько внутрь, к груди, поджала, ещё раз, уже грозно, дёрнула ушами и едва не прянула на Комиссара.
- Ква! – вырвалось у петуха. Как тень, распластав крылья, он кинулся под крыльцо, и оттуда уже пригрозил козе: - Кокореко! Выпорю!
Ветка, испугавшись скандала, снова перемахнула через забор и пропала – как не было. Покинутая Дочка, покачивая грациозной головкой, зашагала вдоль забора: может, Ветка ещё вернётся. Анна, в оконце увидав, что произошло, была уже на дворе:
- Дочка ты, Дочка. Все-то тебя обманывают. Вон как Ветка тебя бросила.
Добавила со странным, будто всплывшим из потерянной уже глубины чувством:
- Дочка-то хорошая. Всё в ней: и рост, и сила. Первый у Зорьки козлёночек был. Порода – мясомолочная. А Ветка-то пуховая; эти дикие, коварные.
Ветка точно была пуховая: до жути лохматая, чёрная, с белой полосой на узкой морде.
- Идёмте в дом, идёмте в дом, - вдруг засуетилась Анна, - Я уж всё на стол поставила.
«Уехать! Уехать – отсюда?» - Вдруг возникло раскалённо в мозгу у Алекса. «Порча», как сказала бы Анна. Но кто знает, может эти большие – глобальные – мысли и есть – порча.
Анна, сделав шаг или два, дёрнулась – иначе описать странное движение плечом: забыла-забыла! – невозможно. Зигзагом, совсем как коза, заспешила к Дочке. Алекс присмотрелся и только сейчас заметил, что от ошейника Дочки идёт на несколько, около трёх метров – цепь. На том конце цепи, который волочился по земле, сбривая растения и выравнивая песочек, оказался – огромный тяжёлый кол. Который мог бы стать орудием убийства даже в очень неопытных руках. Сколько он весил? Килограммов пять? Дочка шла к тощим грядкам редиски, и приближение Анны её вроде бы не беспокоило. Однако Анна вдруг пошла козе наперерез, рискуя вспугнуть, и ловко подхватила конец цепи, рядом с колом. Дочка вздыбилась было, но потом неожиданно смирилась и встала тихо, в середине уже расчищенного цепью круга, глинисто рыжего – трава вся за день подъедена была. Анна вбила кол, кирпичом, лежавшим как метка тут же, подошла к Дочке, приобняла и сказала жалостливо, почёсывая козу за ушами:
- Обманывают тебя, да. Как Россию.
Алекса чуть не свело внезапной судорогой, ощутимой почти как сердечный приступ. Даже остановился, даже побледнел: вот те на, обезумела она, что ли? Однако отец Ефрем на «Россию» и на то, как «Россия» была спасена, не отреагировал и деловито занёс набранное Алексом ведро в дом. Выглянув из сенец, позвал:
- Ну что там, тётьань, кормить-то будешь?
- Буду-буду, - затрепетала Анна и поспешила в дом.
Анна была далеко не старая ещё женщина – пятьдесят шесть, с приятным круглым лицом и соразмерными в нём чертами, сероглазая блондинка, в молодости, должно быть, прекрасная красотой хичкоковских героинь. С годами лицо стало тяжёлым, набухшим, но морщин немного было и сейчас. Что было в этом лице невыносимо – взгляд. Такой должен быть у Вия, подумалось Алексу, когда он в первый раз встретился с Анной глазами. Эти глаза будто поменяли цвет – небольшие, с неопределённым уже разрезом под веками, лёгшими той особенной тонкой и нервной складкой, какая бывает иногда в лицах уроженцев средней полосы: улыбка или нет, а может быть и насмешка. Что-то татарское, что-то немецкое, и небольшая прямая переносица.
«Кликуша», - подумалось Алексу,- «Точно - кликуша. Всё видит».
Глаза эти смотрели навылет, но в периоды плохого самочувствия и усталости взгляд совсем пропадал, оставались только две прозрачные пуговички, прикрывающие страшные дула заряженного оружия. Такой взгляд был и сейчас, хотя внешне не скажешь, как она устала. Анна уже разложила по недомытым тарелкам неряшливый, но ужасно вкусный на вид винегрет из большой алюминиевой миски, прибавив солидные куски бочковой сельди. На печке, которую то и дело надо было подмазывать, стояла эмалированная, наполовину коричневая от масла, кастрюля с гороховым супом, а сковородке потрескивала картошка с помидорами и жареным луком.
- Среда, уж меня простите. А вот винегретик-то с грядки, и укроп вон, пушистый.
- Я мяса не ем, - зачем-то сказал Алекс.
- А я иногда и постом ем, - вздохнула Анна, - ноги уже не ходят.
Отец Ефрем ел молча, набирая помногу, но довольно медленно, долго жевал и потом сидел, вытянув руки по столу, будто обнимал тарелку. Винегрет оказался и правда удивительно вкусным – Алекс такого никогда не ел. Анна всё говорила и говорила. О том, как выхаживала нынешней весной индюшат, а те болели, как лампу сожгла и едва сама не сгорела, как они снова болели, и Анне пришлось ехать в город, «дом бросить» и искать по аптекам пенициллин, как «Параска» решила было за домом присмотреть, червонец взяла, да ни разу и не заглянула. Как Савкины по крыше лазили и хотели в дом проникнуть, чтобы уворовать какое хозяйство – про этот дом в деревне говорят, что городские, богатые. А младший Савкин из зоны вернулся, тут вот недалеко был, а теперь злой и точно её, Аннин, дом сожжёт, потому что она чужая. Что вовсе она не чужая, а отец её, Савелий, хоть в Москве родился, мать его, а бабка Анны, родом отсюда, из этого села. Тут три села, и все родственники, а одна только война. Что тут рядом дед Орех живёт, который пчелу держит, и мёд у него самый лучший, что она тоже хочет пчелу держать, но дорого.
Алекс смотрел в окно и видел еле ухоженный небольшой участок, совсем из Анниного рассказа, на котором - то помидоры вырастают, которые в миску не войдут, то вот, «картошечки не допросишься». Внутренность дома, с продавленным диваном и внезапными, бессмысленно дорогими, тряпками, внешности участка соответствовала. В доме – всего две комнатки. Вся жизнь, даже зимою, была на кухне. Крохотная, ужасно душная, спаленка, в которой предстояло Алексу ночевать, была заставлена вещами так, что кроме пыли в единственном луче света ничего видно не было. Там стояла не работающая стиральная машина советских времён, вместо столика, и швейная машинка, и телевизор, который тоже не работал. На телевизоре стоял бодрый цветок декабрист.
- Ну как ей одной со всем этим.
Анна пела на клиросе в местной церкви и церковное пение любила. Однако церковные дамы считали её чужою. Они, как и Алекс, не понимали, зачем нестарой горожанке, нежной инженерше, понадобилась эта «деревня», на которую, по всей видимости, у Анниной семьи нет средств. Анна про семью не особенно и думала, что конечно плохо, даже когда приходилось у старшей дочери просить деньги. Дети Анны, сын и дочь, были семейные, денег самим часто не хватало. Мечтали о даче, но не о такой же. «Деревню» Анна купила во вдохновении, оттого что ей «видение» было, светлый источник, где вся её семья купается. А когда, просмотрев объявления, нашла этот дом и приехала – поняла, что это он и есть, источник. Вся её инженерская пенсия уходила на хозяйство, так что сама порой «голодала».
- Как в детстве. Берёзовую кашу ем.
Но рассказ снова вернулся к живности и пенициллину.
- Это Господь научил. А ведь мёрли, и Мишка мёр.
Мишкой звали бычка, которого Анна недавно сдала на мясо.
- А как стала пенициллин давать, и Дочке тоже – поправились.
Про прививки и антибиотики, используемые в Америке, откуда было Анне знать?
- А Мишка плакал, когда вели. Били его Савкины, чуть хребет не сломали. Плакал, а они били. И когда я его вела туда, на ферму – плакал! А Савкины ему лёгкие отбили, я пенициллином лечила – он воспаление снимает. Они тут всю живность мою убить хотят.
И вдруг замолчала, склонилась, отчего платочек, повязанный концами назад, смешно надвинулся на лоб, как скуфеечка, и сказала:
- Прошлый год на свёкле работала – за сахар и уголь. Так дали гектар, никого в колхозе нет уже. А нам, приезжим – всё выгода, были бы силы. Июль, жара. Дошла до последней борозды. А там грядки – не мои, поле. Не могу уже, падаю. Остановилась, тяпку поставила и взмолилась: «Господи, подними меня. Ради детей». И вдруг слышу: «Отче наш» поют. Необыкновенным распевом, необыкновенным. Как море. Мужские голоса. Монахи поют! Ангелы поют. Необыкновенным.
В окошке, размером с лицо, не ходили, а плавали как облака крупные индейки с серовато-голубой оторочкой крыльев. Вдруг, вскидывая кавалерственные стройные ноги, показался прекрасный как безе индюк, возмущённо что-то бормоча. Анна встала из-за стола, наспех перекрестившись, поправила платок.
- Игорь приехал. Обещал, что в этом месяце будет. Чудо – человек.
И вышла, крича индюку:
- Орёл, Орлуша…
В комнате словно продолжало парить её лицо, в котором было столько разложившейся на жалость и утомление злобы, так и не осознанной как злоба, разъевшей разум и душу, паки восстановленную бестолковым, но всё же целебным состраданием ко всему живому.
«Святая, ведь точно – святая» - подумал Алекс. И – снова: «Уехать! Уехать как можно скорее! Уехать? Отсюда – из этой страны?»
Послышался негромкий лязг – заперли дверь в гараж. Прибывший автомобиль напугал не только Орлушу, но всех остальных обитателей. Комиссар, выбравшись откуда-то из поленницы, возвестил, что, мол, мы всё равно победим, и задал трёпку проходившей мимо белой хохлатке. Хохлатка взмолилась своему куриному богу, вырвалась – и скрылась.
В кухню, вслед за Анной, вошёл высокий темноглазый человек лет сорока трёх, но моложавый и даже красивый. В руках была большая тяжёлая сумка.
- Игорь, староста наш, - закудахтала Анна, усаживая гостя, оттаскивая к печке сумку - вот вам, батюшка Ефрем, и повод – послужить в воскресенье.
- Анна Владимировна, да я на ночку только. А вернусь в пятницу, поздновато, но жди, точно буду. Нам вон с отцом Ефремом надо одну заявку написать.
- Да как же - на ночку-то? Вон, уже солнце... - Расстроилась Анна.
Только порадоваться успела, что все собрались вместе, и гость с ними. Деток вот только нет. Ну да приедут.
- Будет, тётьань, будет, - успокоил отец Ефрем, вовремя подоспевший Анну утешить, да и сумку взял, - Я-то здесь, почитаем, попоём.
- Попоём, - вздохнула Анна и поспешила за чайником.
- Отец Ефрем, благословите, - чуть поклонился священнику Игорь и протянул большие тёмные, правая на левую, ладони. Отец Ефрем перекрестил вошедшего и пожал протянутые руки: ну, с Богом. Алексу сцена не понравилась: отец Ефрем в сыновья этому Игорю годится. Пигалица он, а не священник. И туда же: Бог благословит! Игорь конечно выглядел более солидно. Однако было что-то в этом крохотном ритуале величественное, огромное.
Солнце повернуло на закат. Отец Ефрем с Анной отправились поливать участок, а Алекс с Игорем сначала убрали после ужина посуду, как смогли – помыли, и сели на крыльце – покурить. Тут-то и открылось, что Игорь – и есть тот самый староста, которого упоминала покойница Алина в своих дневниках.
- Вот оно что.
Алекс чуть было не запел от внезапно нахлынувшей военной радости «Сансару», как это было в доме у Макса. Он ничего, ничего, ничего уже не понимал, а только чувствовал, какой-то ранее доступной только Алёне, подоплёкой, что пришёл в движение огромный, страшный, трагический и вместе светлый круг, диск – какого уже тысячи лет как нет, который в окружающем мире просто невозможен и даже ущербен. Но его несло, его вело, как когда-то, во время лучшего выступления «Ахтунга», когда он Егору, после выступления, пиво предлагал, опьянённый счастьем и силой, хотя сам едва держался на ногах.
- Пасиба, - сказал Егор и бутылку взял. Слов слышно не было – по губам прочитал.
Но внезапно прибежал Руслан, намеревавшийся согнать с пульта бездарного звукаря, и, накричав, утащил с собою - звукарить.
- Как там всё кончилось? – Не удержавшись, спросил Алекс.
- Кончилось, - ответил Игорь и затушил папиросу. Он курил папиросы, Алекс отметил, что только папиросы, и редко. Понемногу. Считалось, что бросил.
- В августе у той, у Ленки, день рожденья. Решил ей тортик купить, со сливками. Она сливки взбитые любила. Жара была, но тогда два дня как спала, гроза прошла небольшая. Перед жарой ей ужасно как плохо было, и силой не накормишь, потому что рот не открывался, и в горле движения не было. Ссохлась, глупая, как таранька. И уже мочится под себя. Но когда не спит – встаёт, в туалет. Я – скорую вызвать; она руками машет, вроде как ругается. Ну, думаю, всё равно вызову, но уж завтра. Что с ней ночью было – не знаю. Утром я: открой, это Игорь. А за дверью - ни шороха. Испугался не на шутку. Стучу, уже в истерике: открой, дура. Снова – ни шороха. Я – дверь высаживать, а там, за дверью – какое-то мычанье. Жива, значит. Дверь таки высадил, соседи уж все тут, я им: скорее за дворником, а сам – к ней. Лежит. Живая, но в обмороке. И листок этот, завещание, рядом с ней, в моче, высох уже. Дворник прибежал, милиция, скорая приехала, соседи. Успокоил, объяснил, выпроводил. Врачиха ей давление померила, глаза посмотрела, укол сделала. В больницу, говорит, скорее. Говорит, отвезём, только документы нужны. А я не знаю, где у Ленки документы лежат. Говорю: можно завтра. Врачиха строго посмотрела, грозно: что ж вы время теряете? Но сама встала – им лишние хлопоты зачем? – звоните, говорит, если что. Уехали. Я – по ящикам рыться, паспорт нашёл, в сумке. И ещё что-то нашёл, документы на квартиру. Себе оставил, и тот листок взял. А её уже насмерть сводит, агония. Я – к телефону, а тот за неуплату отключён. Я – к соседям, звоню как угорелый; скорая ругается, что мол, вы это два раза по одному адресу, так нельзя, или что-то подобное. Ору: умирает она, документы нашёл. Скорая приехала, а там всё уже - остывать начала. Ну, кремировали-хоронили, урна в колумбарии. Листок её нотариус признал, я даже за экспертизу платил. Родичи объявились конечно, но полгода прошло - зима уже, так что им слишком хлопотно было дело заводить, чтобы жильё вернуть. Полгода ждали - когда позвонит; думали - живая. А Ленка и номера их из книжки выдернула. Теперь я там, в той квартире, хозяин. Сдаю. И вот, тёте Ане привожу, что надо. Там, пока не сдал, мой кот Тигран жил. Гадил везде, как коты делают, но я отмыл. Потом, после Ленкиной смерти, чуть не сорвался. Пил недели две - там, в той хатёнке, такое стало. Ленка, хоть и не ходила последние дни почти, была маньячка чистоты. Хоть как-то, но чистенько было. Я засрал поначалу. Потом, когда понял, что сдавать буду, отмыл. Быстро отмыл. Квартиру ту оформили в день памяти пророка Даниила и трёх отроков. Вот я и был там как в пещи огненной.
За скобками полубезумного от горестных воспоминаний рассказа осталось столько обыденного прозрачного как сумерки ужаса ежедневных действий, что Алексу стало не по себе. Поездки в инстанции, дикие, нечеловеческие вопросы, и – главное – личность! Не волевая красавица, а инвалид, сумасшедшая. Хотя Игорю – какая разница, когда по мукам ходил, до него эта разница и не долетела. Ленка, и всё. Кормилица теперь. Но вот так, презрев людей и их чувства, бесстыдно и безропотно дохнуть у себя на диване и при этом делать вид, что ничего не происходит, да ещё и писать – ужасно… и восхитительно.
- Квартира кооперативная была, когда-то родственники взяли. Тогда того кооператива уже не стало, и Ленка сумела в собственность её оформить.
Максу всё это было известно. "Смирновку" пили вчтетвером, тихо. Анна заснула в своей крохотной горенке. Закусывали винегретом, который дорезал по мере надобности Игорь.
Рано утром, по холодку, Игорь и Алекс выехали. Макс, наскоро простившись, пошёл на поле. А в субботу и он собирался в столицу. Понедельник - первый день новой работы уборщиком метро. К полудню Игорь уже подвозил Алекса к пятиэтажке в Подлипках Дачных, где ждала его Алёна. Из дороги Алекс помнил только светло-рыжее коровье стадо, с торчащими хребтами, напуганное шумом, переходившее через небольшое шоссе. Пастух возможно и не был совсем пьян, но шёл, громко напевая и пошатываясь. Может быть, он и не был пьян, а только устал. На ушах, огромных длинных коровьих ушах, виднелись следы укусов насекомых, короста, а хребты и рёбра торчали так, что в животе смотрящего на всё это человека начинало происходить что-то неприятное.
- Может, зайдёшь, чаю выпьем? – Пригласил было Алекс.
- Да нет, мне минут пятнадцать осталось, - ответил Игорь, - Москва уже. Дома чаю напьюсь.