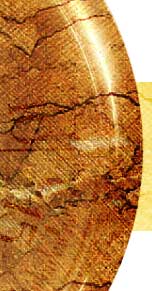немного из романа
Иннокентий и Зина. Из дневника Алины.
Иннокентию нравилось иногда поддаться внезапной необъяснимой тревоге. Позволить себя нести течению. Ненадолго. Но тут случилось непредвиденное. С переменным напряжением тревога волновалась в нём уже несколько недель. Тревога поднимала со дня много прошлого, но уже распавшегося на философемы и образы хлама, так что было даже забавно понаблюдать за тем, как обычное утреннее приветствие вырастает до проклятия или благословения. Или, например, обычный овощной суп открывает культурно-психологический код повара и оттого может оказаться даже ядовитым. Всё это было глубоко и метафорично, но вот тревога никуда не девалась и сильно, хоть и сладко, ныла. Впрочем, сам виноват. Во всём сам виноват, но это особенного значения не имеет.
«Мне не понятно было, и не понятно сейчас, как можно отделять себя от мира. Слышал от людей, не намного меня моложе, странные выражения, которые даже как стихотворные метафоры меня не устраивали. Я улыбнулась миру. Или: привет, мир. У меня такие или другие отношения с миром. Что есть мир? Мир это ты. Так что я и мир – это раздвоение личности. Мир не может существовать без тебя, раз уж ты есть. И он не может принять решения об извержении вулкана или мировой войне без тебя.
У Макса некогда замечалась мною симпатия к людям Третьего Рейха. Он собирал всё, что только мог найти. Показывал мне все эти вырезки и ксероксы. При этом очень любил своего деда, красного генерала, у которого был старший брат, военврач, наполовину немец, как и он сам. Брат воевал в Первую Мировую на стороне Германии. И вот теперь, когда нам случается встретиться, Макс нет-нет да и заговорит о новой мировой войне. «Точечная», «сетевая» война, так он называет её. Крови и ужаса в ней не меньше, чем в масштабных военных действиях. Но ведётся она совсем другими способами. И им нельзя дать оценку: подлые или нет. Макс уверен, что случилась со всеми нами какая-то большая новость. И мне эта шутка ближе, чем «мир и я». Макс понимает, что он участник этой новой войны. А молодые люди, говорящие о мире и себе, не вполне понимают, что они и есть заказчики и участники всего ужаса, происходящего в мире.
Мир растёт изнутри, и он меняется, как цена на хлеб, в зависимости от того, каков ты. Мысль эта сформулирована давно, не мной, но мне симпатична и кажется очень действенной. Мир – это ты. Отношения с миром – отношения с самим собою, но только отчасти, потому что кроме тебя в мире слишком много людей, явлений и предметов. Они могут не учитывать тебя, как ты не учитываешь их. То, что они есть и как они есть – не вызывает благоговения или проклятия… Но я растёкся. И это абхазское вино слишком хорошо, оно не заменит мне «Солнечного берега». Однако «мир и я» - признак времени, и будь я проклят, если скажу слово: тотальная шизофрения. Или тоталитарная шизофрения, последствие тоталитарного романтизма? Интересно, как заиграло слово на мелкой воде. Тот, тод, тотал.».
Иннокентий сидел, обоими локтями на стол, глядя вниз, на кроны парка, а за ними не было видно ни домов, ни каких-либо других признаков города. Эта хрущёвская двушка на юге столицы казалась ему почти колыбелью. А Царицынский парк огромен. Москва вообще очень южный город, южное свойство лучше всего проявляется и заметно, когда утром, часов в пять, летом, возвращаешься из аэропорта. Сегодня утром проводил жену и дочь в Черногорию. Шёл мокрый снег, неожиданно прекратившийся в день похорон отца Ефрема, но эта мокрая чернильная темнота грела. Это было – как Зина, от которой спасения нет, и не будет, потому что он так хочет, и конечно это уже клиника.
Любит? Конечно. В той же степени, что и холоден. Это для него ново, с женой так не было, так не было и с той, при воспоминании о которой возгорается физиология. Он себя теряет в присутствии Зины, а этого не было никогда, и терять он себя не хочет, но Зина ему нужна. Зачем? Он не хочет объяснять. И сейчас уже – возможно от усталости – думает иногда, что зря тогда не устроил ей сцену, не объяснился. А всё подарки, еда, трусики кружевные. А она их носила, сама ему сказала, что носила. И благодарила слепым детским поцелуем в лоб. Вот проклятье-то на самом деле. Интересно, носят ли православные кружевные трусы?д визитом человека, который
Впрочем, всё чушь. Он сегодня же позвонит Зине и объяснится. Всё равно, есть время, или нет, прошло оно или нет, уместно или нет. Это – из тех действий, для которых нет временных отрезков. И вдруг возникло эхо множественных сомнений: а ты уверен, а она поймёт…
Отогнав шум, Иннокентий взял телефон и набрал номер, выведанный когда-то у Макса. Она взяла трубку, на втором звонке. Как будто ждала. Может быть, ждала, что Алекс позвонит? Иннокентию стало очень неуютно и холодно, как когда-то, едва только подумал про Алекса.
- Зинда?
- Ах, вот ведь. Мысли читаешь. Я о тебе тут вспомнила.
Не врёт – зачем ей. Но вспомнила-то по другому поводу!
- Макс о тебе тоже вспоминал. Он собрал людей, чтобы записать альбом, дневники Алины. И у него до тебя дело, а какое - точно не знаю.
Иннокентий вспыхнул, был обижен. Он звонит с чувством и в порыве, а она - про дневники.
- А тебе до меня дело есть?
Ответила мгновенно, волнуясь, но кто ж их знает...
- Конечно. В любое время.
- Тогда я приеду.
Сухо, почти со скрипом - скрепя сердце:
- Приезжай.
"Ну что ж, поговорим, - вздохнула Зина, положив трубку, - Это какая-то дурная неизбежность. Но удивительно, что я не могу сказать, для кого из нас отношения остались прежними: для него или для меня. Для кого из нас время остановилось?"
ИЗ ДНЕВНИКА ЕЛЕНЫ ПЕТРОВОЙ - АЛИНЫ
"1 августа 1989 г. Ткань - самое лучшее, что может быть для меня сейчас. Ткань податлива, но не теряет личности. Она может выцвести, порваться, покрыться пятнами, но ткань - всегда личность. Она достаточно пластична, чтобы сохранить свои свойства и в небольшой детали. Вот, например, вставка - клапан кармана, на обычном костюме. Из другой ткани, другой фактуры. Темнее тона на два. И всё равно этот клапан сохраняет свойства ткани.
Ужасно захотелось новых вещей, одежды. А сейчас так много красивых тканей! Лежу себе, пахну потом и представляю, как сочетаться будет ультрамариновый хлопок с сине-бирюзовыми огурцами с белым набивным батистом, провансальский узор. Изысканно. Я бы такое платье сшила. Обязательно длинное, без оборок, но с небольшими вставками. Нужны именно небольшие вставки. Крупные части простят; не люблю крупные вставки. А тут аккуратные контрастные фрагменты - на груди, на рукавах. Можно добавить защипы и складочки. Но это уже другая тема. Защипы и складочки - выражение трепета, робости и восторга. Как стихи Эмили Диккенсон. Это детали философские. А вставки, просто, или с небольшой узкой тесьмой - это как песни. Или, например, думаю, что можно соорудить из трёх тончайших шёлковых платков. Нечто вроде блузки, открытые плечи. И так приехать на Петровку. Углы летят как крылья, в жару - как будто прохладный ветерок. Но к желанию одежды слишком много примешано грусти. Так что ничего не нужно.
Ничего не хочется, совершенно ничего, и кроме этого "ничего не хочется" писать не о чем. Вспоминать любимых актёров? Фильмы? Так ведь я не так много смотрела фильмов. Помню, сидения в кинотеатре были жёсткие, красные. На таком три часа не высидишь, двухсерийный фильм. Отчего-то вспоминается именно тот кинотеатр. Потому что первый, в который ходила сама, без взрослых. Десять копеек стоил билет, детский. И осень, солнечный день, весь в берёзах. И вот, бегу на сеанс: это моя тайна. Смотреть фильм "Король Олень". Никто не знает, что я иду в кино. Домашние задания вроде бы сделаны, кое-как. Потом попадёт. Но кино всё равно посмотрела.
Какое чудо - кино, как меняет человека. Человек с кино - и человек без кино. Если кино есть, человек надеется, ждёт и может быть даже дождётся. А вот без кино - будет буянить. Помню ещё городской лагерь. То лето, когда были дожди, примерно как сейчас - мощные июльские дожди, и от дождей жара спадала. Я всё смотрела по утрам, на линейке, на тополя: какие высокие. И хотелось спросить: а бывают ли деревья ещё выше, чем эти тополя? Не бывают, конечно не бывают. Оттого что дождь, на улице ни души. Больше ничего не помню, только какие-то выступления днём на открытой эстраде. "Машину Времени" слушают по вечерам везде, но я не слушаю. Для меня эта дворовая жизнь идёт как за стенкой, как и теперь. Кажется, в лагере был сончас. Но можно было уходить домой, отпросившись с сончаса. Отпрашивалась, уходила домой - есть и читать книги. Теперь с тем и с другим - сложности. Шла по улице, ожидая, что сейчас начнётся дождь, и мы вместе с дождём добежим до моего подъезда. Бог весть почему, мне нравилось слово "подъезд".
А когда впервые пришла на Гоголя и со мной стали здороваться как с давно знакомой, было совсем другое. Вдруг поняла, что красива, что нравлюсь, что много что умею. А потом это ощущение так же быстро ушло, и я оставалась в системе только потому, что там проще, чем вне системы. Поначалу то, что до тебя дела нет, нравится. Потом тоже нравится, потому что одна и всего добиваешься сама. И совсем потом, когда понимаешь, что системная жизнь - пустота, тоже нравится. Ведь всё равно умирать одной. Даже с семьёй - как без семьи. Но иногда бывает - в окружении друзей, как я. И это сделал Бог, потому что люди так свести все нити в одну феньку не способны. Потому и верю Богу. Впрочем, Кеша говорил, что таинства церкви десакрализованы. Но он поэт. У него есть две-три струны, он на них - всю жизнь. Мне-то какое дело до таинств? Вот был священник, приехал, мной не погнушался. Вот Игорь, этот вообще за красивые глаза обо мне заботится. Не написано же на мне, что умру и ему жильё оставлю. Всё это Бог делает. Человек так не может. Впрочем, одно интересно, про пустоту. Мужчине наверно труднее мириться с чувством опустошения, потому что физиологически он не бывает пуст. А для женщины опустошение (в том числе и сердца) - состояние естественное. По себе знаю, что сказать "я никого не люблю" приятнее, чем "я люблю". Люблю - это уже беременность.
Но я что-то много сегодня написала. А самое-то главное: придёт Макс, принесёт сок без сахара. Нашёл где-то. И вишни. А вот ему я очень должна. И с чего мне так встрелилось это: должна, и именно Максу, у которого муха в голове, а в сердце зайчик. Он ведь, несмотря на свою серьёзность, очень влюбчивый и к долгому чувству неспособен. То, что он возле меня столько лет, года три - это аномалия. А то, что я с ним как старшая разговариваю - нормально?"
|