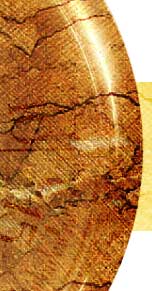АЛЕКСЕЙ ЕРОХИН БУТЫЛКА МОРЕХОДА (О книге О. Э. Мандельштама "Слово и культура") 1988, "В Мире Книг". «В ком сердце есть, тот должен слышать время, Как твой корабль ко дну идёт» О. Мандельштам И дама в бикини с собачкой, и Сирано де Бержерак, бороздящий
космос наперегонки с «Челленджером», и Ахилл с огнемётом наперевес –
практически не сюр, поскольку перенаселённость пространства человеческой мысли
к концу нашего века чревата уже аннигиляцией, и именно это роковое
перенапряжение грозит гибелью планете, а не супер-ракеты как таковые, которые –
только остро отточенные карандаши в руках притомившихся школяров, подуставших
вычерчивать разумную картину мира и готовых с досады черкануть крест-накрест,
кроша атомным грифелем, а энергия знания накапливается покуда всё
стремительнее, порождая – на скорости – мозаичность восприятия, и мир
гигантским коллажем-оксюмороном летит по вертикальной стене времени. При этом фразы, конечно, можно делать и покороче – что,
впрочем, не упрощает ситуации. И утром в сосновом лесу ничего не стоит встретить горящую
жирафу – то есть только правду имели в виду и Сальвадор Дали, и Иван Иванович
Шишкин, и верить нужно обоим. Действительность лепит свой причудливый коллаж рассеянно и
небрежно – и мы так часто отвечаем ей тем же, что не всегда замечаем
многозначительности мгновения – и, спохватываясь задним числом, открываем вдруг
его трепещущую пернатость. И давняя минута ложится на ладонь сегодняшним тёплым
птенцом. Рядовой ракетных войск стратегического назначения – «с миром
державным я был лишь ребячески связан» - песчинка-легионер грозных сил мирового
противостояния – «устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья – в выгоревшей
на солнце энских степей гимнастёрке – «и ни крупицей души я ему не обязан» -
ремень оттягивает подсумок со снаряженными магазинами – «как я ни мучал себя по
чужому подобью» - и затертый листок с единственным маминым почерком, дарящим
эти удивительные слова, листок на турели пулемёта, целящего в сторону смертного
колодца с термоядерной мёртвой водой, что в любой миг может плеснуть в небо – и
дальше, на чужой континент, а дальние строки тихо мучают твои губы, солдат, - «Не потому ль, что я видел на детской картинке Леди Годиву с распущенной рыжею гривой, Я повторяю ещё про себя, под сурдинку:
«Леди Годива прощай! Я не помню, Годива…» - Так она ехала верхом – и дивные волосы укрывали её по
стремена, золотясь на степном солнце, я отвернул пулемёт в сторону – прощай,
Годива, прощай… Пардон за мемуар, но так странно и отчётливо соединились в
этом мгновении времена и движущие силы бытия, что это, право, не только факт
частной биографии. Два десятка строк лёгкими стрекозами зависли в знойном мареве,
на миг уравновесив тяжкий груз атомных мегатонн. Не знаю конструкции этих
весов, способных соразмерить пятистопный дактиль и тринитротолуол, но каждому
под силу ими воспользоваться для исчисления мировой гармонии. Стихи Мандельштама и баллистическая ракета – суть явления
взаимоисключающие, резко антиномические, и тем более безусловно их сопряженье,
вызванное естественным ходом вещей:
так стыкуются разнозначные полюса магнита, так венценосный медный кумир
партнёрствует с бедолагой Евгением, так приземлившийся на Рязанщине непостижимый
марсианец обыденно заскрипит колодезным журавлём. Шаткое, неуверенное равновесие меж инстинктом разума и
рефлексом самоуничтожения должна в конце концов преодолеть поэзия: только она
может потягаться по интенсивности деления атомов с ядерной всемирной отравой,
именно она способна привести в чувство сумасшедший головокружительный оксюморон
эпохи. И хлопочем о новом Пушкине не из тщеславия и любопытства –
заботит альтернатива Хиросиме и Чернобылю. И поднимая из забвения и полунебытия драгоценные имена и
строки, не только о человеческой и литературной справедливости печемся, не
только генеалогию свою воссоздаём, но и формируем ополчение добра и чести. Такова ситуации, на мой взгляд, по большому счёту. Поэтому каждое возвращение поэтических ценностей, их
общественная реанимация есть акт благородный и жизненно необходимый. Именно так воспринимается появление книги Осипа Эмильевича
Мандельштама «Слово и культура». Выпущенная «Советским писателем», она включила
(составление и примечание Павла Неллера) книгу «О поэзии» 1928 г., «Разговор с
Данте», написанный в 1933 году и увидевший свет в 1967-м, отдельные статьи и
рецензии 10-х – 20-х годов. Всё это дополнено фрагментами из ранних редакций и
черновиков, подробными примечаниями, библиографией, архивными фотоснимками,
обстоятельной вступительной статьёй М. Полякова – то есть, издание удалось. «Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана
запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие
годы, скитаясь по дюнам, я нахожу её в песке, прочитываю письмо, узнаю дату
события и последнюю волю погибшего. Я вправе был сделать это. Я не распечатал
чужого письма. Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдёт её.
Нашёл я. Значит, я и есть таинственный адресат». Так писал Мандельштам, проводя параллель со стихотворением,
которое тоже никому конкретно не адресовано, но находит своего – по Боратынскому
– «читателя в потомстве». Своего потомка находит. Тут запечатанной
оказалась целая судьба, постепенно раскапываемая теперь в песке наших дюн – его
тяжёлые пласты с шорохом сползают со страниц, освобождая невыцветшие слова. Достанет ли достоинства быть адресатом – вот вопрос.
Удосужились же пронзительное «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…»
попытаться обратить в эстрадный шлягер, а бедолагу Александра Герцевича пустить
в кабацкую присядку! «И хочется мычать от всех замков и скрепок». Узнаёте?
Узнавая – рубили от кавычки до кавычки со всепонимающим прищуром: «Ах, этот… Ну
зачем…» - давили пальцами цикады-цитаты. За что? Чего они боялись? Вот уж синий том «Библиотеки поэта» переиздан – в чём
же дело? Но они – боялись, боялись,
боялись… Нет, они не из тех, кто вяжет петли, нет. Они из тех, кто
вышибает табуретки. Простите, но это так. Отчасти их можно понять – пуганые вороны. Щеглы выживали
реже. То есть честные щеглы. «Чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в
которых она пока что не нуждается». Обратите внимание на точность слога: пока что. Поэт ощущал, что он не в ладах с современностью (так и писал
об этом отцу в конце 20-х), но и ладушек с нею не признавал. Это у них было
взаимное, наследственное, кровное: вспомните историю отечественной литературы.
Врождённое достоинство российского поэта – и век-волкодав. Опыть группы крови
не совпали. «Но не волк я по крови своей» - но и не московская сторожевая. В «Шуме времени» вспоминал, как в захваченной «кондотьерами
Врангеля» Феодосии снимал комнату у одной старушки. «Старушка жильца держала,
как птицу, считая, что ему нужно переменить воду, почистить клетку, насыпать
зерна. В то время лучше было быть птицей, чем человеком, и соблазн стать
старухиной птицей был велик». Улыбка щегла. Или скворца. Грустная улыбка. Честное певчее сердце. Строки 1918 года:
«Прославим власти сумрачное бремя,
Её невыносимый гнёт. В ком сердце есть, тот должен слышать время, Как твой корабль ко дну идёт». То, что запечатано в бутылке морехода, существенно дополняет
записи в официальном судовом журнале. Но всегда ли понимаем, всегда ли хотим понять прочитанное? «…Не
умел органично войти в ряды писателей, уверенно шедших навстречу жизни»; «…не
всегда мог творчески перестроиться, не всегда мог расширить свой творческий
кругозор», Вероятно, это справедливо, ежели почитать литературу за
физкультурный парад, а поэтов – за демьянов, закармливающий ухой, которой все
уже и так по горло сыты, за бравую лейб-гвардию. Да-да, и «кругозор» не всегда
мог расширить – особливо когда «поселился
в Воронеже»: эка ловко сказано! (Предисловие к «Слову и культуре» таких «суждений»,
по счастию, лишено). Как ударяет по лазам строка из «Шума времени», ставшая
невольным предсказанием: «Ведь после 37-го года и кровь, и стихи журчали иначе».
После 1937-го, ну да… «А мог бы жизнь просвистать скворцом…» Свой долг революции, которым так маялся, Осип Эмильевич
Мандельштам заплатил с большими процентами. Совесть его чиста. В «мёртвом воздухе» января 37-го ему мнилось: «Я без пропуска в Кремль вошёл, Разорвав расстояний холстину, Головою повинной тяжёл…» Но в чём же было виниться поэту, недаром же он сам спокойно
сказал, что «поэзия есть сознание своей правоты». Уроки Мандельштама – это уроки правоты честного человека, «трамвайной
вишенки страшной поры» перед суровым лицом века, уроки достоинства: «ну что ж,
я извиняюсь, но в глубине ничуть не изменяюсь», «и не живу, и всё-таки живу». Мореход погиб, но волны не размыли его штормовой трассы. И
оговорка «пока что» оказалась
провидческой. «И не живу, и всё-таки живу» Умирают люди, но не умирают времена. Погибшие мореходы держат связь. Неслучайно Мандельштам так понимал Блока: «Блок был человеком девятнадцатого столетия и знал, что дни
его столетия сочтены. Он жадно расширял и углублял свой внутренний мир во
времени, подобно тому как барсук роется в земле, устраивая своё жилище,
прокладывая из него два выхода. Век – барсучья нора, и человек своего века
живёт и движется в сугубо отмеренном пространстве, лихорадочно стремится
расширить свои владения и больше всего дорожит выходами из подземной норы. И,
движимый этим барсучьим инстинктом, Блок углублял своё поэтическое знание
девятнадцатого века». Этот властный «барсучий инстинкт» был в высшей степени
присущ и самому Мандельштаму, докапывавшемуся до эллинизма и «лабиринта
ажурно-тонкой культуры» средневековья, до «наивного и умного» восемнадцатого
века и феномена Чаадаева. Эти выходы не для побега – для доступа воздуха. Эти барсучьи ходы – кровеносные сосуды мировой культуры. Тромбы приводят к гангрене. Грозит ампутация. Да и если нога только затекает – «отсидел» - на неё уже
трудно ступить. Не чувствуешь, словно чужая. Кровь застоялась. Нужно сделать
усилие и идти. Шампански покалывает – это боль оживления. Не «отсидеть» бы голову. Наш век перетянут посередине тугим жгутом – словно перешиблен
надвое. Сколько веков в двадцатом веке? Роем к Мандельштаму – как в другой век. Вертясь же на тесном пятачке сегодня, мы в некотором роде
повторяем ошибку Паниковского с гирями: «Пилите, Шура, пилите, скоро будет
золото». «…Мы хотим жить исторически…», - так определил Мандельштам
нашу коренную потребность. Золото культуры накапливается веками, промываемое водами
времени. И для добычи его нужно идти против течения реки времён, к её истокам. Державин, прощаясь со своим веком, нерадужно был настроен
относительно исторической перспективы: «А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы». Течение тсремительное, сносит, волочит за собою. Не любит,
когда с ним кто-то не в ладах. И это не фигура речи, не квазифилософская абстракция,
а жестокая реальность, сугубая конкретика, при определённых обстоятельствах
рвущая головы с плеч долой. Прошлые, дальние звуки лиры и трубы гасит шум
течения. Но «в нас, - писал Мандельштам, - заложена неодолимая
потребность найти твёрдый орешек кремля, акрополя» - чтоб было на что опереться.
Это трудно. «Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стран. Зато
каждое слово словаря Даля есть орешек акрополя, маленький кремль» - вот что
может помочь в борьбе с бесформенной стихией, небытием, отвсюду угрожающим
нашей истории». В начале мира – есть такая версия – было слово. Оно и может
спасти мир. И это не кустарный промысел в пределах державы, не
провинциальная утеха, не местечковое тщеславие. Мировая культура есть организм
единый – кровь в нём не должна застаиваться. Мандельштам писал о конце минувшего века: «Отлучение от
великих европейских интересов, отпадение от великой европейской культуры,
отторгнутость от великого лона, воспринимаемая почти как ересь, в которой
боялись себе признаться, стыдясь, была уже свершившимся фактом». Ход века нынешнего это отлучение только усугубил – вплоть до
отторжения. Но слободской гонор тут неуместен – и вот сейчас наконец поняли,
что выжить можно только всем вместе. Старик Ной, возможно, не авторитет, но не случайно же
приветил он и «чистых», и «нечистых» во время вынужденного своего круиза. Выжить ныне
означает – понять. И культура тут – толмач, посредник, миротворец. Трагический
оксюморон способен обернуться гармонией. Судорожный коллаж эпохи должен быть
разминирован. Вот так причудливо и нерасторжимо своединены в этом мире
щегловитый щегол и межконтинентальные бумеранги, 37-й год и рыжеволосая Годива,
атомный пепел и пески времён, мальчишка-ракетчик и бутылка морехода. Будем жить и читать своих поэтов.
|