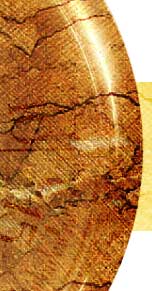О
Наталье Горбаневской.
Для
меня в ней было нечто загадочное. Много загадочного, и не пыталась себе объяснить.
Эти её шестидесятые-семидесятые. Как она выжила, как выехала, как сохранила эту
свою радиоактивную витальность? Человек, разговаривавший с ней, буквально
облучался и начинал тоже излучать витальность. Это её чутьё на вкус и цвет
времени – я только изумлялась, как она всё понимает в новых вещах и порядках,
как управляется с этим мирком.
...Каждый
раз, как пересекались в Москве - с раскрытыми объятьями: Наташа! А мне даже
стыдно было ей отвечать, потому что можно было только сгорать в лучах её
незаслуженного внимания, а всё остальное мало значило. Слышала она плохо, но
как все старые люди – отлично слышала вторыми ушами. На каком-то полудетском
вечере, недалеко от Самотёки, на брошенное мной: какая вы энергичная! - она
ответила глухим трубным голосом (такое бормотание горна):
-
Старенькая - усталенькая!
И точно
на ней была какая-то пепельная, серебристая тень. В последнюю встречу в Москве
на ней был бежево-серый, светлый плащик. Бог весть, почему я его запомнила. Может,
потому что по плащику видно было, что везли её на машине в дождь, она спала и
не очень ловко, сонная, выбралась из машины. Потом, осенью, через журнал она
попросила найти ей сапоги на сырую погоду. У нас с ней один размер. Я отправила
сообщение, что сапоги есть, но она не отозвалась. Нашли или нет ей сапоги - не
знаю. Помню, что стало ясно вместо дождливо.
За
несколько лет, как её помню, глаз выкатился ещё сильнее и стал почти уродлив,
он очень изменял её лицо, придавая вид маски шекспировской ведьмы. Да я и не
против была бы увидеть её шекспировской ведьмой в "Макбете". При
какой-то сверхвозможной открытости в ней всегда было нечто таинственное, почти
грозное.
Вместе
с Леной Ванеян оказались горелым летом 2010 на Баррикадной, в квартире каких-то
её родственников. По дороге искали цветы, нашли. Сумрачные продавщицы показали
нам самые свежие розы, особенно нежные от дымной вуали. И вдруг – полная ваза
воды опрокинулась, образовав на середине магазинчика озеро. Не последовало ни
возмущения, ни с одной стороны, ни неловкости, будто так и надо. Мы прибавили к
розам гвоздики.
Горбаневская
пила холодный кофе, а нам, гостьям, предложила варенье и компот. Тургеневскую
обстановку (особенный московский полубардак на кухне и в комнате, огромные
помещения, да ещё кондиционер, предмет её скрытой шутки) довершало её
светло-зелёное индийское платье с кружевами. Она очень редко надевала вещи,
которые ей не шли. В последние два-три года она видимо политику изменила, стала
даже как бы юродствовать в одежде: тихая старушка-путешественница; так думаю,
что это было почти сознательно: что дадут, то и хорошо. И всё равно к лицу.
Красавицей она никогда не была, но в ней было, даже в последние годы, особенное
пронзительное обаяние.
Тогда
же, летом 2010, за кофе она сказала (мне нравилось, как она говорила:
ясно-ясно, лучше всех учителей):
- Не
понимаю, что за драка за места. Как я могла соперничать с Бродским, например?
Он Бродский, а у меня ведь есть своё, пусть небольшое, место.
Высказывание
может быть немного неверным в форме, но по смыслу точно передано. В этом была
вся Ахматова.
Всё то,
что выходило в оны лета из Советского Союза было связано со спецслужбами, и не
только с советскими. Иначе построение выхода и входа, а так же перебежек от
точки к точке было бы невозможно. Связь со спецслужбами для политического
деятеля (или как стыдливо теперь: правозащитника) просто необходима, и это
часть работы (правозащитника). Агентов было много. Некоторых знали и по разным
причинам терпели, некоторых не знали, но подводных камней было – не сосчитать. Мне
представить эти обстоятельства уже нельзя было, хотя пришлось несколько раз
посидеть кое-где, ожидая, что сейчас вот отправят в КПЗ; на руках в 1989 был
псих, вполне изведавший тюремной психушки по поводу журнала "Посев",
который положил ему в комнату такой вот "правозащитник"- агент. Но
советские учреждения - это на всю жизнь страшная школа. Горбаневская знала, как
поставить провокатора на место и как уйти от темы. На вечере "Поэты,
родившиеся под созвездием Близнецов" я представила её Натальей
Евгеньевной. Она вышла и, подняв руку, сказала:
- У
поэта нет отчества. Кто называет по отчеству Блока?
Полагаю,
в бытовом отношении он был для всех своих врачей и пр. Александром
Александровичем. Но это - к слову.
Про мои
дикие подозрения относительно спецслужб она наверно знала, интуитивно, читала в
глазах - а что она умела читать в глазах, я не сомневаюсь. Поэтому, чтобы
разбить лёд, уничтожить отчуждение, всегда была подчёркнуто ласкова, но никогда
- приторна. Вообще она обострённо чувствовала человека, и мне случалось не раз в
этом убедиться.
Зимой
2009 для Русской Премии писала внутреннюю рецензию на её стихи. В рецензии по
большей части расставляла приоритеты - что мол, надо ей дать премию, ибо заслужила.
Рецензия в сети вполне доступна. О стихах писала с обычным увлечением, потому
что было, о чём писать. И вот, весной выяснилось, что дали ей (а как могло быть
иначе-то).
Она
сама прекрасно перемену литературной политики поняла - что я и прочитала в её
остановившемся глазу на церемонии вручения. На ней была довольно приятного
вида, даже щеголеватая шаль, платье с астраханским модным принтом, и вся она
была как светлый комочек спутанного шёлка. Однако съесть его было непросто. Она
вышла, махнула рукой и сказала:
-
Христос воскресе.
Затем
коротко рассказала, что за дома были на месте, где теперь стоит этот президент-отель
и что она кланяется всем свои близким, и тем, кто когда-то здесь жил. Была
пасха. Радоница. Это было самое внятное и сильное слово на вручении премии на
несколько лет вокруг. Вроде бы надо было отказаться (она же против
государства), но она понимала, что уже всё равно, и всё по-другому.
Есть
мнение, что пожилые люди остаются во времени своей молодости и всё измеряют
этим временем. Но только не Горбаневская. Кто-то прокомментировал одно из её
боевых сообщений: мол, не шестьдесят восьмой год. Она большими буквами
ответила: вот именно! За этим ироничным «вот именно» стояло очень много.
Горбаневская не осталась в оттепели, как считали многие, а лучше молодых
понимала, что всё пошло по-другому. На возмущения по поводу тонального крема на
лице Алёхиной, на фото сидящей за решёткой, ответила вполне дендистски:
-
Женщине хочется всегда хорошо выглядеть. Особенно в тюрьме.
Никакого
другого варианта ответа не предвиделось.
Сообщение
её о кончине вызвало во мне воспоминания тургеневских гостей летом 2010. Так
же: одна, в квартире... О чём она любила говорить, говорила охотно и много, так
это о детях и о внуках. Даже показала мне внучку, тогда же, на вечере
Близнецов.
Накануне
смерти, как сообщают, была здорова. То есть, кроме старческой усталости и
изношенности - ничего не беспокоило, хотя бы в тот день. Так уходят, когда
надоедает жизнь: сердце снимает с себя ответственность за дальнейшее бытие. Но
ей, кажется, жизнь надоесть не могла.
Я не
знала, о чём говорить с ней: не то от смущения, не то от самомнения, что часто
одно и то же. Но удивительно, что она знала это, а я избавлена была тем, что
знаю, что она знает - от неловкости. Это как - не ты миришься с совестью, а она
с тобой; и именно тем, что она пошла на уступки (уступки, сделанные совестью -
каково!). И это оковывает цепями долга на века вперёд.
|